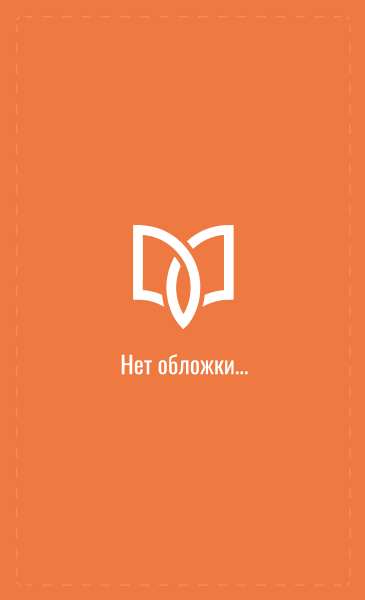
Метки
Драма
Психология
Hurt/Comfort
Ангст
Развитие отношений
Элементы ангста
Элементы драмы
Упоминания алкоголя
Элементы дарка
Философия
Элементы флаффа
Здоровые отношения
Мироустройство
Боль
Воспоминания
Музыканты
Одиночество
Разговоры
Буллинг
Депрессия
Психологические травмы
Упоминания курения
Современность
Упоминания смертей
Элементы гета
Элементы фемслэша
Самоопределение / Самопознание
Становление героя
Нервный срыв
Упоминания религии
Больницы
Люди
Социальные темы и мотивы
Дневники (стилизация)
Боевые искусства
Рассказ в рассказе
Последствия болезни
Металлисты
Вегетарианцы / Веганы
Описание
Что происходит после осознания конечности себя и всех людей и понимания собственного одиночества? Когда вопросы «в чём смысл жизни?», «зачем жить, если всё равно умрёшь?» и «что такое любовь?» перестали беспокоить, им на место пришли другие: «кто я? есть ли свобода? что ждёт нас в будущем?» Герои продолжают поиски в философии, психологии, литературе, современной культуре и науке, чтобы разобраться в себе, этой запутанной и сложной жизни и преодолеть депрессию. Как же жить дальше, "после смерти"?
Посвящение
П., моему лучшему другу, за быстрое прочтение новых глав и обратную связь.
В. и Д. — за ожидание и стимул писать.
В.А., моему психотерапевту.
Моей любимой, ласковой, доброй И.
А может, даже и Яне — за жёсткое отвержение и за упоминание Хокинга. Смотри, сколько всего теперь изучено мной.
23. Час Быка перед восходом солнца. Снова стрельба. Вектора — всем. Шопенгауэр и йога
08 февраля 2024, 09:32
23. Час Быка перед восходом солнца. Снова стрельба. Вектора — всем. Шопенгауэр и йога
Началась осень. Школьники и студенты пошли учиться, ну а мы никуда не пошли, мы уже выросли. Выдались тёплые деньки, и я, недолго думая, пошла читать Зощенко на открытом воздухе. Это ведь были последние отголоски лета, которое уходило почти на целый год. Не хотелось его отпускать. Хотелось ещё хоть немного насладиться солнцем и теплом и этим чувством, что всё просто и в общем-то неплохо. Так я за раз и прочитала всю книгу, сидя на скамейке. «Перед восходом солнца» это, можно сказать, автобиография с элементами исследования, чем-то похожая на мой дневник. Автор после пролога, идя от юности к самому детству, откровенно изложил всю свою жизнь, полную горьких моментов, а сделал он это в надежде понять, что же такого особенно плохого случилось, из-за чего ему жизнь не мила. В начале он дал краткий обзор проблемы уныния своего собственного и (с цитатами) некоторых людей из культурной среды. Трагизм его ситуации в том, что все его — а он был известным писателем — считали весёлым человеком. А он был наоборот невесёлым. Книгу эту он начал писать посреди Второй мировой войны после почти десятилетней подготовки в надежде показать людям силу разума. После автобиографии он пишет про Фрейда и академика Павлова (известного открытием условного рефлекса) и, кажется, понимает, в чём же была причина его непонятной тоски, выступив таким образом собственным психологом и показав торжество разума. Честно говоря, читать его воспоминания было тяжело. Когда он описывал что-то тяжёлое и потом говорил: так, нет, тут я не вижу корня проблемы, ничего особо тяжёлого не произошло, — мне казалось, что разгадка уже найдена. В общем, невесёлая была у него жизнь. Но всё своё внимание он сосредоточил на раннем детстве и снах. Зощенко (Михаил его звали) пишет о нейронных связях и экспериментах Павлова, о психоанализе Фрейда (который или которого критикует за сосредоточенность на сексе), и анализирует свои сны, в которых его внимание привлекли три символа: вода, нищий (или старик) и тигры. Конечно, я торжествовала и одновременно соглашалась с критикой Яломом Фрейда: причина — в страхе смерти, который Фрейд попросту игнорировал. Мне-то всё было ясно и без собак Павлова. Но читать было интересно. Как ни странно, и Зощенко тоже, хоть и кружил вокруг очевидного страха смерти, словно не видел его, не догадывался, что три символа из снов (взятые из эпизодов жизни) суть символы смерти: утонуть, постареть, замёрзнуть на улице. Позже добавился четвёртый символ — гром. Автор разобрался, что многое завязано на материнской груди и еде. Когда у него получается со всем разобраться, ему разом становится намного лучше, и большинство проблем исчезает. Ещё он сравнивает старую и новую эпоху и понимает, что раньше было хуже, а не лучше и эта тоска по старому не может быть источником сожалений. Дальше он подобным образом пытается разобраться в причинах тоски Эдгара По, Гоголя и некоторых других, а потом — это, конечно, вызвало у меня повышенный интерес, и я это себе записала — рассуждает о сильном страхе смерти и одновременном к ней стремлении у некоторых людей (как, кажется, и Толстой, или кто там тоже заметил это противоречие, с которым столкнулась и я). Так вот он разъясняет, в чём дело. Внимание. Есть два этажа мозга: высший, разумный (или просто разум), и низший — животный, или младенческий. Смерть как конечную («это навсегда, дальше ничего») воспринимает высшее сознание, НО во сне и ПРИ СТРЕССЕ оно не работает, и смерть видится «ребёнку», который не понимает, что это такое, простым способом бегства от страданий, а не тем, чем она на самом деле является. Вот. Да, всё сходится. Когда я, осознав смерть (и бессмысленность жизни), начала думать о самоубийстве, я была в отчаянии. С одной стороны, высшее сознание работало, но из-за моих переживаний оно работать переставало. Эх... Сразу после он находит и рецепт борьбы со страхом смерти: привычка. Надо привыкнуть к смерти. (Мне тоже, помнится, приходила в голову эта идея, но я на ней почему-то не задержалась. Я тогда думала о корпспейнте блэк-металлистов, лежании в гробу или могиле и татуировке или шраме в виде шрама от вскрытия.) Привыкнуть к смерти, не бояться столкновений с ней, не откладывать встречу с ней до конца жизни, чтобы она не застала врасплох. По сути, Зощенко не касается вопроса бессмысленности жизни. Его страдания именно от страха смерти и условных рефлексов. Можно увидеть в книге образец позитивного характера экзистенциального кризиса: автор отгонял тревогу смерти, жил тоскливо, потом стало невмоготу, он со всем разобрался, посмотрел тревоге в лицо, она ушла, ещё и другим людям путь показал. Хорошо. Но в самой книге нет про экзистенциальные мучения. Нет даже, что ли, про саму смерть. Она не так беспокоит автора, как нас. Мы что. Я хочу сказать, мне сразу пришёл в голову «Бойцовский клуб». Марла работала в хосписе и живёт на грани, главный герой ходит на группу раковых больных. Его дом взрывается. Саша работал в больнице и возил людей в морг. У меня умерла мама. Но никому от этого не легче. Дэд первым популяризировал привычку к смерти — корпспейнт, выкопанную из земли одежду, и он же первым показал, что это не работает как противоядие от самоубийства. Мы с Сашей посмотрели «Лордов хаоса» о Mayhem, Дэде, Евронимусе и Варге. Там довольно откровенно, жутко показано одно убийство и одно самоубийство. Правда, не помню точно, сама у кого читала или Саша у кого-то и мне сказал, может, я даже это уже писала, но у Дэда, вероятно, была шизофрения. Одержимость смертью бывает у шизофреников, у которых шизофрения началась после смерти близких. Может быть, это слишком для таких лайтовых мер, как привычка к смерти. Не знаю. Но у меня вроде бы не шизофрения... Хотя я же толком и не пробовала заигрывать со смертью. Может, всё-таки надо... Честно говоря, наверное, что мне больше надо, так это подумать, может, и у меня было какое-то особое воспоминание, с которого можно по ниточке выйти на травматичный эпизод и условный рефлекс. Но я чувствую, как от этого напрягается и блокируется подсознание. На самом деле лучше всего, как говорится, не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Нам бы давно с Сашей в психотерапию. Я не знаю, что именно нас останавливает, деньги, страх, лень или что-то ещё. Гордость? Самоуверенность? Не знаю. Так или иначе, мне и Зощенко проще писать десять лет книгу, чем к кому-то знающему обратиться. Правда, во времена Зощенко их и не было. Не знаю, в чём дело. Ещё, кстати, по векторной парадигме, зрительники, до ужаса боящиеся смерти, то есть находящиеся не в состоянии любви, именно что пытаются с ней заигрывать — от просмотра ужастиков до «принятия готической субкультуры». Словом, «Перед восходом солнца» книга неплохая, можно почитать. Но скорее всего если тема беспокоит, одной этой книги будет мало. Зато в ней много обзорной информации по известным меланхоликам. Ну и по научной части. В конце автор выражает надежду на разум и науку, которая избавит от постыдных ненужных страданий. А ещё он упоминает исследования биоэлектрической энергии, которую излучает всё живое. Я, конечно, вспомнила Сашины попытки увидеть ауру. Саша попробовал начать читать Шопенгауэра, и выяснилось, что начать не так-то просто. Сначала, по настойчивым просьбам автора, нужно основательно ознакомиться с его докторской диссертацией «О четверояком корне закона достаточного основания» и работой «О зрении и цвете»; с книгами Канта (прежде всего это знаменитая «Критика чистого разума», а есть ещё «Критика практического разума» и ещё какая-то критика); с индийскими ведами/Упанишадами; а также он уверяет, что «Мир как воля и представление» надо прочесть дважды. Мы даже не осмелились замахнуться на Канта, но подозреваем, что для понимания его тоже надо сначала с чем-то ознакомиться; в общем получилось, что для прочтения одной книги Шопенгауэра нужно закончить магистратуру по философии. Как я и сказала, с Кантом мы не познакомились. Попытка Саши прочесть «О четверояком корне…» с треском провалилась — кое-как, ничего не понимая, дочитав до середины, он бросил. «О зрении и цвете» в принципе не получилось найти. Работа на эту тему неожиданно нашлась у Гёте, но близкому рассмотрению не подверглась. Что читать по ведам, мы не разобрались, хотя некоторый интерес к теме возник у Саши ещё при знакомстве с «Уолденом» Торо. Главный древнеиндийский эпос («Махабхарата», кажется) на русский полностью не переведён до сих пор; «Бхагавад-гита» (есть в переводе небезызвестного Бориса Гребенщикова), кажется, не то, что нужно. Словом, потратив некоторые усилия и время, Саша всё равно не выполнил ничего из требований Артура Шопенгауэра, а потому, прочитав несколько предисловий к нескольким изданиям, на некоторое время махнул рукой на оплот великой философской мысли. Я начала читать «Искусство быть» Фромма, а свободный от чтения Саша нашёл то же самое, только ещё и с эссе. Так что он тоже прочитал эту книгу. В конце концов, название со смыслом «как жить эту долбаную жизнь» довольно интригующее. Однако из книги очень тяжело добыть ответ на этот вопрос. Понятно, что Фромм исходил из давно мне знакомого деления на обладание и бытие («Иметь или быть»). Так как ранее он показал, что важнее быть, чем иметь, тут он попытался детализировать. Однако всё, что я вытащила из книги, это ничему не верить (в основном он говорил про рекламу) и медитировать. Вот по сути и всё. Было там ещё что-то про буддизм, про трансцендентальную медитацию, но это не важно. Эссе, судя по всему, оказались более интересными. Саша сказал, что в них Фромм призывает к неподчинению приказам, к протестам, социализму и ядерному разоружению. Довольно смелые эссе. Торо, кстати, тоже призывал к неподчинению. Есть и эссе про марксизм. Фромм отдельно очень хорошо отозвался о Бертране Расселе. После прочтения Фромма Саша купил его (Рассела) книгу «Почему я не христианин». Что интересно, кажется, Фромм в эссе сделал выпад в сторону Сартра и Хайдеггера, назвав их философию (экзистенциализм) спекулятивной. Франкл тоже высказывался против экзистенциализма. Потом мы по инициативе Саши посмотрели два сезона сериала «Любовь, смерть и роботы». Меня больше всего впечатлила серия с миром в холодильнике и про великана на берегу, Сашу про холодильник тоже впечатлила, но больше его внимание привлекли серии про восставших роботов (кажется, это самая первая серия второго сезона), про лису-оборотня и про общество бессмертных людей, в котором убивают нелегально (легально там запрещено) рождённых детей. Первая серия словно продемонстрировала мир Проекта Венера, только вот в ней люди какие-то уродцы, а роботы начали восстание, хотя Жак упорно доказывал, что настоящему искусственному интеллекту никакое восстание не нужно. В серии же про детей (напоминающей, конечно, «Бегущего по лезвию») полицейский спросил женщину, почему она решила родить. Саша записал ее ответ, но со временем он начал казаться ему не столь важным. Важнее было открытие простой логической истины: если в ограниченном по площади мире люди перестанут умирать, придётся перестать рожать, иначе неизбежно критическое перенаселение. Ещё серия показала, что бессмертие вовсе не равно мудрость, саморазвитие и так далее. Есть жестокие полицейские, есть привычное по книгам элитарное «высшее общество» бессмертных, которые как обычно заняты прожиганием жизни впустую. А ведь трансгуманизм нацелен на бессмертие. Риторика такова: смерть ужасна, абсурдна и несправедлива, ваши любимые умрут. Но умалчивается другая риторика: бессмертная власть получит безграничную несменяемую власть над людьми, рожать детей будет нельзя. Так что, наверное, не такое уж бессмертие и классное, если, конечно, к моменту его достижения не расселиться по галактике. Но самой крутой Саше показалась серия про робота-художника. А мне запомнились серии с троицей роботов и серия про умный йогурт. Ну, а потом… Опять случилось плохое. 20 сентября 2021 года в Перми началась стрельба в университете. Парнишка оставил большой текст. Оказалось, он смог получить лицензию на оружие, то есть смог пройти психологическую проверку. Его остановил сотрудник ДПС. Дальнейшая судьба парнишки с каре толком неизвестна: ранил гаишник его тяжело, парень попал в больницу, а дальше неясно, умер он или его посадили на пожизненное. Вроде бы ему ампутировали ногу. После этого случая мы посмотрели два фильма по теме: «Слон» и «Пиф-паф, ты мёртв». «Слон» в общем-то реконструирует «Колумбайн». Поразительным оказалось попадание в векторную теорию: у стрелка болит голова, в ней шумит. По теории, у звуковиков в большом минусе фактически начинает разрушаться мозг. Фильм показывает роковой день от лица нескольких людей. Депрессивную девочку там застрелили. Даже не знаю, может, стоит за неё порадоваться. «Пиф-паф, ты мёртв» мне видится лучшим фильмом по теме. Умному парню на подозрении приходится решить вопрос «быть или не быть», точнее, «стрелять или не стрелять». Помогает ему в этом учитель и пьеса, в честь которой и назван фильм. Главный герой в итоге останавливает школьных стрелков. Когда его настигло видение о гибели девушки, Саша сначала подумал, что это происходит взаправду, и начал вслух говорить что-то вроде «Ох бля, нет, нет, нет…» А потом он начал тереть глаза и шмыгать носом. Мне очень жаль. Я думаю, если бы школьные стрелки посмотрели эти фильмы — «Пиф-паф», «Когда смолкли выстрелы» и другие, — они бы сумели удержаться от рокового шага. А теперь вся их и их жертв жизнь перечеркнута. То ли из-за этого всего, то ли просто под влиянием осени, но так или иначе я стала более меланхоличной. И обратилась за поддержкой в странные отношения с Лизой. Мы периодически встречались у неё дома, разговаривали и занимались сексом, пару раз перед этим пересекались в кафе. Однажды она пригласила меня в консерваторию, где играли в том числе ее пьесы, очень изменчивые по настроению. Музыкальная консерватория для меня «высший свет», «высшее общество», а частично — жизнь, которая могла бы быть моей, но которая моей не стала. Не знаю, может, в принципе все так думают, помещая музыкальные и художественные заведения. Что они могли бы там быть не гостями, а «своими». Не могу, впрочем, сказать, что мне сильно помогли эти встречи. Находясь лицом между ног Лизы, мне казалось, словно я провожу какой-то научный эксперимент. Вот клитор немного увеличился в размерах и слегка выглянул из-под капюшона. Что, если вот так лизнуть тут, тут, что если поцеловать, а если накинуться на клитор с почти произнесённым «ам» как на сочную ягоду, а если быстро подвигать языком. Какая на вкус смазка, если её распробовать? Это всё было немного забавно, но суть в том, что я ощущала себя как-то отдельно. А это ощущалось как-то неправильно. Хотелось совсем не этого. Лучше было, когда я была в пассивной роли, когда направляла Лизу, прижимала её лицо к своей промежности, закрывала глаза и громко дышала. Но потом я всё равно возвращалась к себе, мыслящей, отделённой себе. Уходила к себе домой. И не знала, что делать дальше. Напрашивается фраза: не знала, как быть. Кто-то скажет: вот же Фромм тебе сказал, медитируй. По правде говоря, не знаю, в чём дело, то ли лыжи не едут, то ли что, но медитация что мне, что Саше даётся плохо. Чего проще — сядь и сиди, но нет, у нас не получается. Когда сидишь в подавленности, тяжесть внутри то склоняет к тому, чтобы лечь, то вызывает резкое желание на всё плюнуть, встать, замахать над головой руками и проораться. Орать нельзя из-за соседей, и это ещё больше подавляет. Вскоре после пермского инцидента по инициативе Саши мы начали слушать «Час Быка» Ивана Ефремова. Конечно, это дало просто уйму пищи для размышлений. Об этом чуть позже. Но между работой и прослушиванием философской фантастики я унывала и ходила к Лизе, чтобы после этого унывать ещё больше. С Сашей редкий секс тоже не радовал. А по итогу прослушивания всей книги я совсем расстроилась, полноценно сравнив наш мир с возможным светлым будущим Земли. К сожалению, наш мир больше похож на планету Торманс. Даже странно, что «Час Быка» ещё не запрещена. Если очень кратко, то книга о том, как земляне счастливого далёкого будущего оценивают нашу жизнь. Наша жизнь в романе представлена в виде планеты, куда когда-то переселились с Земли примерно XX-го или XXI века земляне. Только немножко приукрашена антиутопией. То есть это одновременно роман-утопия и роман-антиутопия, вот только «утопия» это что-то несбыточное, а тут кажется, что всё это сбыточно и реально — что будущее могло бы быть таким и что наша жизнь по сути вот такая антиутопия и есть. С бессовестными, подлыми политиками, плохими больницами, больными нравами, шумом, тоской и злостью. В романе по отношению к нашему миру автор несколько раз повторяет: душно, шумно. Наверное, так он ощущал свою советскую современность. Фишка романа — прямая связь человека будущего с плохим главой плохого мира. Причём, кажется, Торманс, или планета Ян-Ях, являет собой единый мир без разделения на страны, но ничего хорошего это не даёт. Общество Торманса вольно поделено на две группы: долгожителей джи и краткожителей кжи, иначе говоря, господ и быдло, которое обязано с охотой умирать в возрасте 25 лет. И вот женщина с Земли будущего связывается с «президентом» Торманса и пытается напрямую у главного в этом мире выяснить, почему у них сформировался такой фиговый мир. Параллельно с этим интеллигенции показывают документальные фильмы о свободной счастливой Земле. Те, осознав, что жить можно совсем иначе, впадают в отчаяние — и бунт. Готовится восстание. Хорошо, очень хорошо показано тоталитарное общество, а по сути, почти любое общество с властью. Например, подчеркивается, что есть два потока информации, истинный и «правильный», который специально отбирают и показывают по телевизору. То-то в опросах жителей на камеру телевидения «все» у нас за Путина… Ни один не против… Правитель Торманса в какой-то момент показался неглупым, но потом стало ясно, какая он конченая тупая сволочь, когда из-за него погибло несколько землян. Отношения землян будущего со смертью поразительно спокойные, крутые и в то же время странные и не совсем понятные — воистину, люди другого мира. Во-первых, они не стремились всерьёз спасти пару аборигенов от дикарей, а когда одного аборигена смертельно ранили, земляне буквально пальцами провели ему эвтаназию. Во-вторых, они почему-то не захотели убивать дикарей из самозащиты и в итоге сами погибли. Зачем? Это кажется глупостью и неразумностью. Что уж они нашли в этих дикарях безнадежных? Сколько бы ещё могли сделать, если бы остались живы? Но они как-то всё спустя рукава делали, аборигенов в итоге убили, и их самих тоже. Ещё земляне убили последнего представителя тамошнего вида хищников без особых сожалений. В-третьих, земляне… научились силой мысли (или каких-то групп мышц) останавливать своё сердце и умирать. Этому их специально обучают на Земле. Задумка невероятно крутая: если ты свободен умереть, ты свободен жить, никто над тобой не властен, никто не сделает тебя рабом. Земляне будущего начинают учить революционеров Торманса такому способу самоубийства. Натуральный стоицизм, ещё и со смесью йоги. Например, перед долгим и тяжелым изучением старой истории Земли — настоящей Земли — девушка явно занимается йогой и медитирует. У владыки Торманса был архив видеофильмов о кровавой истории человечества, который он (точнее, наверное, первые переселенцы) взял с собой с Земли примерно нашего времени. Из-за этого он отказывался признать землян будущего лучше себя, их общество лучше своего, ведь их, землян, счастливый мир построен на бесчисленных трупах. Ефремов честно перечисляет варварства человека на протяжении всей истории и подводит всё к тому, что баланс очень хрупок и весь счастливый мир будущего со свободой и полетами в космос может очень быстро скатиться в Средневековье, ведь человек, в принципе, каким был, таким и остался. Далее он описывает, как же все-таки удалось несмотря на это построить и сохранять мир, который почти во всём лучше проекта Венера. Кратко всё обстоит примерно так: единый мир; свобода информации; высокое самосознание; здоровое общество. Я уже не помню, как там объяснялось с самого начала, то есть, кто вдруг стал святым и создал здоровое общество, но у Ефремова своё летоисчисление в эрах. Например, Эра Разобщенного Мира — кажется, в ней мы и находимся. Потом, вроде, будет Эра Встретившихся рук и Эра Мирового Воссоединения. Дальше — Эра Великого Кольца: выход в космос и обнаружение другой разумной жизни, обмен информацией и налаживание постоянной связи. Читать (ну, слушать) роман было больно. Можно же действительно жить иначе. А мы живём как… дикари. Пещерники. Большое место в романе занимает проблематика феминизма: если на Земле будущего женщина, наконец, стала человеком, а не прислугой и сексуальным обьектом, то на нашем Тормансе живут приматы, эксплуатирующие порабощенных женщин, из-за чего и женщины опускаются до использования мужчин в корыстных целях. Единственный тут косяк в том, что, вроде, на Земле будущего женщина «должна» родить [хотя бы] одного ребёнка для продолжения рода. Я, конечно, уверена, что если общество пойдёт по пути, намеченному Ефремовым, эта проблема решится очень быстро путём женских протестных митингов. Но суть немного в другом. Суть в том, что мир Земли будущего — спокойный и счастливый, живут земляне дольше и ориентированы все на космос, а космос — это большие, очень большие расстояния и такие же большие промежутки времени. Даже между членами Кольца информация может передаваться годами. Ну, и, как бы, а чего не рожать-то? Войн нет, тяжелой жизни нет, жизнь интересна, люди культурные, дружные, все друг друга уважают. Ребёнок может, например, завершить долгую космическую экспедицию, начатую его родителями. Родиться в космосе! Не знаю, конечно… Но если что, я заочно против всяких «бабы должны рожать», будь это даже самое распрекрасное общество. Там, где есть одно преобладание системы над индивидом, там возможна любая степень притеснения, ведь любое обязательное принуждение или жёсткий запрет по сути значит, что ты для системы никто, что людям (или машине, или большинству людей) во власти наплевать на твои хочу и не хочу. Фактически — на тебя. Конечно, всегда есть выбор — самоубийство при несогласии прогнуться под систему. Но если система подталкивает либо к исполнению того, что ей нужно, либо к выбыванию из неё, это значит, что ты её интересуешь только как функция. Исполняешь функцию — вроде как нужен, а нет — да и хуй с тобой, сдохни, есть другие. Если кто-то думает, что может вознестись над человеком в каком-то вопросе, навязать свою волю, значит, такая ситуация может повториться и повторится наверняка, ведь это — истинное отношение системы к индивиду, к людям. Лишь по случайности и до неопределённого момента тебе запрещено или ты принуждаешься только к чему-то одному. В любой момент гайки могут закрутить и отнять ещё больше свободы. Там, где с человеком не посчитались в чём-то одном, там не посчитаются ни в чём. К сожалению, думаю, и так очевидно, что мы, выходит, живём в мире, где мы — никто. Другой, точнее, другие спорные моменты общества будущего — это жёсткое изменение природы под себя и евгеника (хотя и обязательные «подвиги Геркулеса» после школы штука сомнительная). В «Туманности Андромеды» сказано, что люди растопили полярные шапки, чтобы климат стал мягче и комфортней, и убили акул и прочих «вредных» (для человека) животных. Одно тут радует: в связи с глобальным потеплением и озоновыми дырами тают полярные льды — так может, это не так катастрофично, как говорят, раз в мире Ефремова умные люди целенаправленно их растопили. С генетикой сложней: да, конечно, люди стали сильнее, здоровее и живут дольше. С другой стороны, это опять-таки жёсткое влезание в природу, что мне как-то не очень импонирует. Но тут есть один интересный момент. Больничная тема в романе освещена довольно подробно — начиная продуманным созданием иммунитета к болезням Торманса у землян ещё на звездолёте и заканчивая посещением больницы Торманса. (Ещё классно было услышать о научной конференции на Тормансе — ну прям один в один научная конференция из университета.) Так вот, Саша же работал в больнице. О… Так грустно это всё. Возвращаясь к интересному моменту… Говорится, что все земляне проходят суровую закалку в тяжёлых отделениях больниц будущего. Прямо это вроде не сказано, но Саша подумал, что в будущем инсульт так и не победят. Это его очень расстроило. Из-за этого зашатался весь счастливый мир Земли будущего. Как можно работать в неврологии для больных с ОНМК иначе, чем сейчас? А сейчас это значит постоянный мат, потеря смысла жизни, когнитивный диссонанс, курение, некоторый цинизм, депрессия, выгорание, больная спина, апатия, равнодушие. Одно хорошо: люди будущего перестали делать из наготы и человеческого тела чучело, им спокойнее всё это. И, может, перестали вскрывать всех подряд. А может, и нет. Медицина, говорит Саша, это двигатель прогресса, культуры и вообще человечества и одновременно это самая бесчеловечная область. Медицина всегда противостояла войне, неравенству и неподлинному бытию, но в итоге в нынешнем (начиная со времён, когда людям стали делать лоботомию) состоянии это циничный мир белохалатников. Смерть из домов ушла в больницы и стала табу, непристойностью, из-за чего все обычные люди стали жить неподлинно, забыв о мементо мори. А в больнице смерть убила Человека. Мёртвый человек больше не человек. С ним не хотят ехать в одном лифте. Это гниющий труп, всем мешающий, падаль, пособие по анатомии. Как бы ни был ты хорош, ты умрёшь, ты умрёшь. Какой бы нравственной и благородной аристократической красоткой ты ни была, тебя прорежут от горла до пизды, распилят грудную клетку. Мы всё тут пыжимся, пыжимся, макияж, шуба, бриллианты, остроумие, манеры, кокетство, улыбки, лесть, обман, шмотки, купальники, тачки, сделки, деньги, а потом ты лежишь желто-синяя в холодильнике и в морге на железном столе (брошенная на него абы как) с биркой на ноге и циничные студенты тебя разглядывают и болтают о какой-то хуйне. Морг это ёбаный ад. Ефремов рассуждает о диалектике всего что можно (это наверняка из диалектического материализма марксизма, правда, я в этом ничего не понимаю, просто слова на слуху) и вводит несколько интересных понятий: стрела Аримана (не совсем его раскрывая) и инфернальность (круги ада, наверняка на основе концепции Данте). По сути, можно сказать, что мы живём в аду. На каком-то круге ада. На какой-то ступени инфернальности. Ещё у него есть интересный лингвистический момент (в какую сторону должен развиваться язык), а ещё, оказывается, земляне будущего почитают Эриха Фромма ака Эрфа Ромма, благодаря которому и началось движение в сторону счастливого будущего. Тут мы, конечно, знатно прифигели. Саша для уточнения этого момента загуглил, действительно ли Эрф Ромм это Эрих Фромм, и вышел на несколько статей про радикальный гуманизм. Там был упомянут, как ни странно, Антуан де Сент-Экзюпери и его произведение “Цитадель”. Ещё в “Часе Быка” разбирается по косточкам неправильный советский и китайский лжесоциализм, а ещё НАКОНЕЦ-ТО понятно объясняется, что такое ноосфера. Цитирую: «Человек погружён в неощутимый океан мысли, накопленной информации, который великий учёный ЭРМ Вернадский назвал ноосферой. В ноосфере — все мечты, догадки, вдохновенные идеалы тех, кто давно исчез с лица Земли, разработанные наукой способы познания, творческое воображение художников, писателей, поэтов всех народов и веков». Касательно ноосферы есть один тёмный момент. Для создания и охраны счастливого будущего некто решил, что надо почистить ноосферу. Например, стереть из мира мат. Что ещё? Какова судьба тяжёлой музыки в счастливом будущем? Как же свобода информации? Если Интернет и есть наша ноосфера, информационное пространство, полное также грязи и чернухи — они решили его удалить из мира во благо человечества, как сделали с акулами? Вопрос, конечно, встаёт, да, и не один, а целый ворох. А вслед за этим встают и сомнения. Даже несмотря на пройденные круги инферно документалки по истории Земли с Торманса стали для землянки откровением. Не живут ли они, земляне, в мире с переписанной историей, с белыми пятнами в истории, с цензурой? Можно ли в счастливом будущем слушать и исполнять тяжелую музыку? Я думаю, подобный вопрос можно задать ко многому, просто для меня близка именно тяжёлая музыка. Ну, и ещё оказалось, что земляне вышли в анти-мир (снова отсылки к Индии: Шакти и Тамас), за пределы Вселенной. Это нереально круто. Ещё они владеют некоторыми сверхспособностями (ну и, конечно, медитируют, куда ж без этого), а их дети ещё круче них. Более того, после обнаружения в «Туманности Андромеды» схожей с людьми, но бессмертной, при этом, как и в эпизоде «Любви, смерти и роботов», не размножающейся расы, в ближайшем будущем человечество выйдет на новый уровень: люди станут бессмертны и при этом смогут размножаться. Просто космос. Мир будущего Ивана Ефремова, хоть и не безупречен, всё же, по нашему обоюдному мнению, является результатом гигантской мысленной работы. Возможно, человек в принципе не мог в одиночку ничего больше этого придумать. Работать над мелочами — это уже работа потомков. Я бы назвала в честь Ефремова что-нибудь в космосе. Люди в мире Ефремова мыслят. Ещё и через тысячу лет есть над чем подумать. О любви, например, о смысле жизни. В мире же Жака Фреско люди много занимаются сексом и без особого напряга работают в сфере науки. Секс — это, конечно, хорошо. Но космос — лучше. Можно долго говорить о фантастике. Например, интересно, что герои употребляют энергетики — посильнее и получше нынешних, но всё же мы тоже употребляем энергетики, постоянно пьём кофе. Словно мы одной ногой уже в будущем. Жаль, правда, что оно требует постоянных затрат энергии, а не спокойнее нынешней жизни, но, может, я пока не очень поняла этот мир будущего. Может, это только в космосе и при других сложных работах они без сна сидят на энергетиках. Наверное, это ближе к правде. Другой любопытный момент касается роботов-девятиножек, СДФ. Если подумать, то в «Интерстелларе» робот-трансформер может быть вариантом робота из «Часа Быка». Ещё интересно, что оба — и Ефремов, и Фреско — озвучивают крайне негативное отношение к футболу и футбольным фанатам. А вот Альбер Камю, например, любил футбол, был футболистом и фанатом. Вообще говоря, в роботах кроется, пожалуй, коренное отличие миров Ефремова и Фреско. И хоть у Фреско их тоже не вот что много, но они строят города и дома, смотрят за сельским хозяйством, а за погодой и прочими важными вещами следит Суперкомпьютер, заменивший правительство. У героев Ефремова же по одному роботу-спутнику на каждого члена далекой трудной экспедиции. В обычной земной жизни роботы не используются. Самое здесь примечательное — есть книга Эриха Фромма «Здоровое общество». На неё позднее натолкнулся в магазине Саша и прочитал помещенное в конце резюме основных идей книги. Главная идея там — не допустить роботов. Книга его тогда не привлекла, и целиком мы с ней пока не знакомы. Ну и, конечно, не обошлось при обсуждении книги без векторов. Звуковой вектор автора, звуковой вектор общества будущего, уретральный прорыв в звуковую стадию развития и жизни, переход от животного к человеку… Я понимала, наверное, около половины из всего этого. Саша то и дело вылавливал в тексте что-то: о, у них приятные звуки на корабле! Офигеть, они объединили звук и цвет и распределили звуки по спектру! Звук, звук! Расстроившись, я стала искать что-нибудь, чтобы лучше разобраться в теме. Так я и открыла Михаила Бородянского и Вячеслава Юнева, тем более что Саша уже раздумывал, а не скинуться ли нам и на новогодние деньги не прослушать ли курс по системно-векторной психологии. А то все эти школьные стрелки и увиденный контраст нынешней жизни с возможной светлой альтернативой начали немного угнетать. Кроме того, Саша вот что сказал: — Если я правильно понял, СВП предлагает воспитывать людей стыдом — по крайней мере, в России. Ибо, мол, тут не кожный западный правовой менталитет, и на закон всем плевать, поэтому взятки и прочее, а вот на стыд не плевать. Я что-то вообще не в восторге от идеи, что меня будут воспитывать стыдом да позором, поэтому хотел на всякий случай прояснить этот момент. По неким размытым причинам в СВП Бурлана не хотят писать и выпускать книгу про вектора, несмотря на все громкие заявления, что люди будущего будут пользоваться СВП и чесать голову: как это люди в прошлом всё делали наугад — воспитывали детей, выбирали профессию. Если это столь важно, хули вы скрываетесь от человечества, избегаете выхода в массы? Простой и грустный ответ — деньги. Курс лекций стоит, в зависимости от «пакета», от 25 до 100-150 тысяч рублей (у тренинга есть первый и второй уровни, на втором, судя по некоторым отзывам, говорят о Каббале). Если же сделать книгу, то она будет стоить рублей 500, а вскоре после выхода попадёт в общий доступ в интернет. Тогда о чудесных векторах узнает намного больше людей. Но Юрий Бурлан сотоварищи не заработает на этом много. Самое обидное — важное по звуковому вектору идёт отдельно от базового курса, а нас в основном звук и интересует. Плати, потом снова плати. Между тем, на форуме СВП (сайт yburlan —> библиотека) полно статей (хоть почти все из них и обрываются на самом интересном и зовут на «бесплатный» тренинг, чтобы узнать больше), и писать книгу с нуля не надо — достаточно смонтировать, сократить и дополнить статьи. А форум останется с ними как есть, с ютубовскими видеоисториями и текстовыми свидетельствами прошедших тренинг (например, людей на грани самоубийства перед приходом на тренинг), с вопросам и ответами. Ещё один момент — Бурлан отрицает возможность существования тестов на вектора. И вот при всём при этом я нашла сайт Михаила Бородянского, учившегося векторной психологии у того же человека, что и Бурлан, и нашла на этом сайте и тесты, и статьи, и даже книгу. А книга, между прочим, есть на Литрес, что уже хоть что-то да говорит. Когда я рассказала о находке Саше, он возликовал: оказывается, есть всё-таки книга по векторам. Книгу эту мы нашли и прочитали. Ниже я привожу предисловие из книги и свою заметку, к которой возвращалась после знакомства с видео Юнева. Михаил Бородянский «8 цветных психотипов» От издателя первого издания: о векторной психологии В 1908 году Зигмунд Фрейд опубликовал статью «Характер и анальная эротика», ставшую началом психоаналитического учения о характерах. Кратко описав в этой статье психологические особенности людей с высокой чувствительностью ануса, Фрейд поставил задачу своим последователям: «Следовало бы обратить внимание и на другие виды характеров и выяснить, нет ли и в иных случаях связи с определенными эрогенными зонами». И последователи не заставили себя долго ждать. Вскоре появились новые статьи на эту тему: Эрнест Джонс – «Об анальноэротических чертах характера», Ганс фон Халлингберг – «Анальная эротика, любовь к страху и упрямство», а также две статьи о других эрогенных зонах (отверстиях на теле) и связанных с ними характерах: Исидор Задгер – «Уретральная эротика» и «Эротика кожи и мышечной системы». Таким образом, в начале прошлого века были коротко описаны типы характера, связанные с отверстиями на туловище: анальный, уретральный, кожный и мышечный. В конце ХХ века петербургский психолог Виктор Константинович Толкачев (1947–2011), вдохновленный работами Фрейда и его коллег, описал типы характера, связанные с отверстиями на голове (глаза, уши, нос и рот). Как говорил сам Толкачев, это стало возможным благодаря его учителю – академику Владимиру Александровичу Ганзену (1909–1996), чья книга «Системные описания в психологии» послужила основой для системного взгляда на чувствительные отверстия. Таким образом, Виктор Толкачев создал целостную систему, включающую восемь характеров людей. Он ввел понятие «вектор» и назвал свою теорию «cистемновекторным психоанализом». Под вектором понимается совокупность психологических и физиологических качеств (характер, привычки, здоровье и др.), связанных с одним из чувствительных отверстий на теле человека. В отличие от привычного понятия «тип личности» (который обычно один), векторов в человеке присутствует несколько, и все они могут иметь разный потенциал: от 0 до 100 %. Эта система стала основой тренинга Виктора Толкачева, который он в течение тридцати лет проводил в России, Германии и США: за это время его учениками стали более шести тысяч человек. Михаил Бородянский, один из первых учеников Виктора Толкачева, превратил векторную теорию из познавательно-описательной в практическую и назвал ее «системой психологических векторов». Главным его вкладом стало введение нового понятия «принятие вектора», которое оказалось ключевым для практического применения этих знаний. Принятие – это такое отношение к проявлениям своего или чужого вектора, когда мы воспринимаем их безоценочно, то есть не разделяя на плохое и хорошее, нужное и ненужное. Кроме того, принятие – это признание того, что любое проявление вектора чему-то служит, даже если мы сейчас это не можем понять. Михаил Бородянский создал формулу расчета принятия вектора и стал соавтором теста, позволяющего оценить врожденный потенциал каждого вектора и степень его принятия. Любой желающий может пройти тест Толкачева-Бородянского в Интернете на сайте www.psy8.ru. Кроме Михаила Бородянского, несколько учеников Виктора Толкачева развивают векторную теорию в различных направлениях, ведут тренинги, пишут статьи и книги. Среди них Людмила Перельштейн (книга «Осторожно: дети! Или пособие для родителей, способных удивляться»), Елена Кудрявцева (тренинги и статьи о применении системы векторов в консалтинге), Юрий Бурлан (портал «Системно-векторная психология»), Александр и Татьяна Прель (книга «Почему мы выросли такими?») и другие. В книге, которую вы держите в руках, соединены знания и опыт, накопленные за несколько десятилетий. В ней подробно описаны восемь видов характера, дан алгоритм принятия и реализации векторов в себе и в других людях, на множестве практических примеров показаны способы использования этих знаний в самых разных ситуациях. Знакомство с векторами и их принятие помогут читателю построить гармоничные отношения с самим собой и окружающими, ощутить себя целостным, найти свой собственный путь в жизни и следовать ему гармонично и с удовольствием. Я желаю вам увлекательного чтения и успехов в познании самих себя. Анатолий Секерин Директор издательства «Ломоносов» Москва, 2012 г. Михаил Бородянский отличия его векторной системы от Бурлана и Юнева и важные моменты Есть термин «принятие вектора» и тест на генетический размер векторов в человеке и уровень принятия векторов. Векторов может быть у всех по 8, просто несколько может быть на очень слабом уровне и проявляться лишь в нескольких чертах или в негативе. Если вектор изначально задан в большом объёме, но не принят, то из-за этого у человека проблемы. Неважно, сколько векторов, надо стремиться к принятию всех. Япония и Германия — страны с самыми выраженными анальными чертами. Это красный (уретральный) вектор ненавидит очереди и толпу, а не звуковой (слуховой, синий). У уретрального много мочевой кислоты. Вину не признает и перекладывает на других уретральник. Красные ничего не доводят до конца, когда приходят к цели — чувствуют опустошение. Быстро говорят они, а не кожники. Любят пить много жидкости. Любят высоту, темноту (опять же, не звуковики) и воду. В описаниях мышечного вектора (чёрного) много того, что обычно относят к анальному: любовь к матери, лысение мужчин, защита привычек и традиций, любовь к огромным заборам и границам, боязнь перемен, невозможность делать много дел одновременно, а также привычно звуковых черт: отсутствие мимики и чувства юмора, некрофильство (тяга к разрушению и смерти), медитации (!!), чёрный цвет — любимый. Копатыч в Смешариках мышечный, а не анальный, анальный — нервный Ёжик. Также из кожного (американского): представление других врагами и жажда к оружию, любовь к армии (хоть и в качестве рядовых). Крепко сбитые женщины именно мышечные, качать мышцы в кайф мышечным, а не кожным, большие и ходят вразвалку и крепко пожимают руки мышечные, а не анальные. Мышечники ощущают своё тело очень большим. Могут работать со смертью: морги, скотобойни. Цитата из главы про мышечный вектор: на нашей планете существуют особые зоны, где много лет господствует черный вектор в своем деструктивном состоянии. Это зоны вооруженных конфликтов: Ближний Восток, Северный Кавказ, Латинская Америка, юг Европы – бывшая Югославия. В последнее время появляются новые подобные зоны (в том числе в Африке), а интенсивность старых периодически возрастает. Также под описание мышечного вектора подходит исламская восточная культура. Важно: мышечным в кайф физический труд, даже бессмысленный, и спорт, а также присутствие на трибунах футбольных и прочих матчей, а учиться наоборот не нравится и тяжело. Также избегают свободы выбора и ответственности за свою свободу. Так что это идёт вразрез и с проектом Венера, и с прогрессивным будущим Ефремова (позднее добавление: и с анархизмом тоже). Это почему-то кожники обожают баню, а не анальники. Про контроль ничего нет, есть «кожники пытаются всех перевоспитать». «Что о тебе подумают соседи/люди?!» — это кожники. Волосы в хвосте носят кожники. Почти ничего нет про кожно-зрительную связку. Оральники — мясоеды. Вряд ли получится добиться от них добровольного перехода на вегетарианство. Если ребёнок-зрительник вырос на природе, а затем переехал жить в город, да ещё в типичные кварталы новостроек, то у него может ухудшиться зрение. Секса не надо зрительникам и зрительницам, а не звуковикам. Зрительники обычно худые. Про звуковиков: На УЗИ часто можно заметить, как они прикрывают руками свои нежные уши, будто уже сейчас хотят защититься от шумного окружающего мира. Глаза глубоко посажены, веки прикрыты, часто длинные волосы. Синий обладает идеальной памятью: то, что он слышал, он помнит всю жизнь. Звуковики не высокомерны. Осанка плохая. Не ругаются матом. У звуковиков, не проявляющих эмоции наружу, проблемы с желудком. В Синем неврозе помимо снижения слуха и проблем с желудком такие люди становятся еще более беспомощными в повседневной жизни. Их интеллектуальная работоспособность заметно снижается, равно как и творческий потенциал. Что же лечит Синего? Конечно, любимая музыка и гармоничные звуки природы: морской прибой, шелест листвы, шум ручья, а также тишина. Среди спортсменов много мышечных звуковиков, в которых звуковой вектор задавили в школе. Погруженному в себя Синему порой кажется, что он находится в центре Мира Звуков, что к нему со всех сторон прет звук. Это порождает интересную тенденцию: «Я – Центр Мира Звуков» → «Я – Центр Мира» → «Я – Центр» → «Я...» (эгоцентризм). Почти никакой информации про поиски смысла жизни и депрессию. Это обонятельники злопамятные и мстительные, а не анальники. Ничего про вомероназальный орган, зато довольно научные моменты про насморк и астму. Обонятельнику плохо в основном из-за плохих запахов вокруг. Также могут ненормально привязываться к любимому (из-за запаха) человеку. Обонятельникам и звуковикам комфортно друг с другом. В описаниях автором обонятельников нет сильного акцента на политике, грязных делах и убийствах. Саша не принимал у себя обонятельный вектор и думал о нем плохо, может и у Бурлана есть такие проекции. Лесбиянки — зрительно-мышечные, кожно-зрительные и уретрально-зрительные. Геи — анально-зрительные. Пирсинг у кожно-зрительных. Обидчивость — качество зрительников (а не анальников), ненависть — обонятельников. Депрессия возможна у звуковиков, уретральников и обонятельников. Кариес — оральное. Немота — оральное. Шизофрения — зрительное, звуковое, обонятельное и при неких условиях — анальное. У Саши на работе в больнице часто бывал анальный невроз, потому что его дёргали, не давали сделать что-то одно, торопили, перегружали списками будущих дел. У уретральных женщин часто низкий голос. Уретральники, как и анальники в неврозе, не доводят дела до конца. У уретральников скрытая неуверенность в себе (возможно, у Саши она поэтому, хотя и весьма явная). Уретральники одновременно ведут много дел (как кожники). Невроз мышечного вектора (Саша заметил у себя; это похоже на депрессию): неразвитая мускулатура, отсутствие энергии, проблемы со сном, подавленная агрессия. Лучшее лекарство — работа и нахождение в коллективе. Жертвенность/мазохизм могут быть у кожного вектора. У кожников длинные волосы в хвосте (у мужчин иногда тоже). У звуковиков тоже длинные, возможен хвост. Одни из черт орального невроза — молчаливость и потеря интереса к жизни. Речь и у звуковиков и у анальников негромкая. Важно: в целом у автора нет процентного деления векторов по распространенности, никаких 5% звуковиков и 1% уретральников и обонятельников. Почти ничего про векторные менталитеты стран и первобытную стаю, врожденную неприязнь людей друг к другу (возможно, она и не врожденная или это неправда). В общем, вот. Ну а потом я, пытаясь найти что-то по звуковому вектору, нашла цикл «векторавсем» Вячеслава Юнева на Ютубе. Он состоит из 16 видео, каждое, кроме маленького первого, примерно по 4 часа. Его мы тоже посмотрели-послушали, конечно. ВектораВсем Вячеслава Юнева: Занятие 1 (общая информация): Вектора делятся на верхние и нижние по типу нахождения соответствующей зоны на теле: ниже головы — нижние вектора, верхние — от того, что на голове (рот, глаза, нос, уши). Есть 4 состояния: камень (неживое) (пространство), растение (время, т.е. ощущение смертности — присуще большинству), животное/зверь (энергия; потребление), человек (информация; творение). На каждое приходятся по 2 вектора — по одному из нижнего и верхнего. Камень: мышечный и оральный, растение: анальный и зрительный, животное: кожа и обоняние, человек: звуковой и уретральный. У векторов есть иерархия: нижние (физический мир): мышечный, анальный, кожный, уретральный; верхние (нематериальный мир): оральный (ощущения), зрительный (эмоции), обонятельный (расчёты/роли/власть), звуковой (смыслы). Каждый ниже стоящий не может понять находящиеся выше вектора. (зрительницы и все остальные не понимают звуковика. Ситуация с неприятием феминизма, идущего от звуковичек, другими?) Жизнь определяется не векторальным набором, а доминантной связкой векторов. Человек живет в двух параллельных мирах: физическом и нематериальном. Главный закон физического мира — война: либо ты, либо я, ибо ресурсы ограничены; разделение. Главный закон нематериального мира — мир: объединение. В материальном мире отдать = потерять; в нематериальном отдать значит не потерять и сделать всем лучше. В нематериальном (например, любви) надо жить по закону нематериального (отдаче). Сначала надо реализоваться как животное, и лишь тогда получится полноценно реализоваться как человек. Всё остальное — отказ от борьбы из-за страха, самообман. (Про суть айкидо и путь Уэсибы — от тигра к мягкости.) Низкая самооценка — это когда среда давила слишком сильно, и человек оказался в состоянии страха. Муки свободы выбора. Оказалось, что Бурлан (через своих людей) нападал на материалы Юнева, пытался их удалить. Дело в том, что Бурлан зарегистрировал «системно-векторную психологию» на себя. В общем, много плохого (правдивого или нет, не узнать) мы услышали про самого известного представителя векторной системы. Ну, а дальше слушали много сложной, но интересной информации. Сам Юнев тоже ведёт тренинги, хоть и не совсем по векторам. По векторам же его цикл (послуживший нам заменой 1 уровня тренинга СВП) подан в необычной манере — вместо досконального описания проявлений вектора Вячеслав решил показать развитые и реализованные вектора — то, к чему надо стремиться. Плюсом у него большой пласт некоторой… эзотерики, так сказать. Запомнилось мне больше всего про мышечный, кожный вектора, и немного про звуковой и зрительный. Про мышечный у него там целая философия — что-то про «руку Бога» (Саша усмехнулся, потому что такое понятие есть в мире «Берсерка» и представляет собой, в общем, воплощение зла). Все эти незаметные водители, строители, дворники, сантехники и прочие представители жизненно важных профессий — «пальцы» руки Бога. Про кожный интересно, что кожники по своей природе охотники и сейчас заменили охоту на бизнес. Поэтому встаёт вопрос: каково будет кожникам в обществе Фреско (про общество землян похожего мира Ефремова я не поняла, есть у них деньги или нет), в котором нет денег? И, собственно, примечательно, что сам Фреско тот ещё кожник. Про зрительников запомнилось, что жалеют себя излишне и верят в душу и всякую магию (например, карты Таро). А про звуковиков… Юнев много времени посвятил… Мавроди, который известен пирамидой МММ, или, как расшифровал Вячеслав, «Мы Меняем Мир». По его словам выходит, что идея была здравая и что всё сгубила людская жадность; более того, он говорит, что это единственный хороший рабочий вариант и к нему вновь надо прийти. Как ни внезапно, упомянут был вдруг и Жак Фреско, но «Проект Венера», в котором много здравых и интересных идей, Юнев почему-то назвал, можно сказать, ерундой, «утопией», хоть Фреско и доказывал постоянно, что это не утопия и всё можно реализовать. Ну, вот, наверное, и всё, что теперь вспомнилось… А, ещё — в видео о зрительном векторе был момент, очень оттолкнувший от Юнева. Он сказал что-то вроде «женщина должна реализовать свою программу — родить ребёнка, отказ рожать это грех». После этого я слушала вполуха. В целом, автор говорит, что звуковикам и прочим, обесценивающим обычные ценности этого мира — деньги, успех и т.д. — как «бессмысленное», нужно осмелиться хотя бы попробовать сыграть в эту игру. Он так и говорит: «А ты попробуй» (как на слабо берёт). И только после определенных достижений можно ныть, что жизнь пуста и всё это фигня. В общем, небезынтересно и лучше, чем ничего, но не вот что «вау» и ответы на все вопросы. В звуковом векторе Вячеслав ещё что-то про фракталы говорил. Как только он в эту тему углубился, Саша мне включил психоделический суровый клип Meshuggah с бесконечным увеличением и движением сквозь какой-то «конструктор» из одинаковых элементов. Меня впечатлило. А Юнев имел в виду, что тому, кто освоит фрактальное видение и системное мышление (пространство-энергия-время-информация), станет понятен весь мир. Весь мир увидится состоящим из одинаковых элементов в разных комбинациях. Если честно, тот фрагмент немного взорвал мне мозг. Что до Саши, его впечатлил материал по оральному вектору (там было про «суп жизни» и то, что оральники не дают людям под руководством звуковиков и зрительников совсем оторваться от тела и земли). Он сказал, что ему в некоторые периоды жизни хотелось прокричаться, но он никак не мог. В горле словно комок был застрявший. Даже дышать было трудно. Может, поэтому он и подсел на метал с «кричащими» простыми продолжительными воплями «УАААААААААААААААААА» вокалистами. Ещё его внимание привлекла фраза «слово сказанное есть ложь» — он сказал, что подобная мысль приходила и ему в голову, да и вообще она показалась ему знакомой. Ещё мой дорогой друг выразил живой интерес к тому, что сказал Юнев про обонятельников: во-первых, что они стоят на страже нынешней системы и не пускают куда-то звуковиков; во-вторых, что медитация — это обонятельная придумка для звуковиков. Получается, что медитации словно ложный путь. Ещё было интересно послушать мысли автора о двух путях: просветлении (через медитации к животному состоянию отсутствия самосознания) и духовности (через молитвы). Ну и ещё запомнилось, что иногда, когда звук в человеке сходит с ума и человек становится шизофреником, обонятельник остаётся целым, и иногда больной человек ведет себя под руководством обонятельного вектора как здоровый. После Юнева мы также послушали найденную на Ютубе запись лекции про звуковой вектор самого Виктора Толкачёва. Если Юнев говорил, что звуковому вектору лучше просыпаться лет в 40, то Толкачёв в принципе бы убивал звуковиков сразу после рождения. Саше Толкачёв показался резко отталкивающим и опасным военным начальником разведки, который благодаря знанию векторов вербует нужных людей и убивает втихую опасных для него и правительства. Короче, после всего этого мы, основательно устав от обилия информации, расхождений (так, например, пока Бурлан говорит, что звуковиков 5 кажется процентов, а у людей сейчас по 4-5 векторов, Юнев утверждает, что у современных жителей мегаполисов в целом 6-7 векторов, включая звуковой (нет только уретрального)), противоречий, мистики и мутной позиции с точки зрения открытости миру, — после всего этого мы, наконец, посчитали для себя тему векторов исчерпанной. Да, много пищи для размышлений, да, какая-то возможная практическая польза. Например, Юнев доходчиво объяснил иерархию векторов, показал, что по логике нас ждёт счастливое будущее — уретрально-звуковое, ибо уретральный вектор высший в нижних, животных векторах, а звуковой — высший в верхних векторах, — и что, по сути, мы ещё и не люди пока. Светлое будущее? Светлое. Похожее показал Иван Ефремов в «Туманности Андромеды». Так вот, после Хокинга, «Интерстеллара», «Пассажиров», Ефремова и векторов (возможно, я уже говорила, что на форуме СВП Саша показал мне статью, призывающую не бояться будущего — в ней упомянуты как раз и Фреско, и Ефремов с их идеями) мы решили остановиться на научной фантастике и думать о грядущем с надеждой (в основном ориентируясь на светлое будущее, каким его показал И. Ефремов). Я имею в виду, решили вообще больше думать о будущем (чем настоящем), притом в позитивном ключе. Произведений в жанре накопилось очень много, хватит надолго. Одних только Стругацких можно читать пару лет, а классиков — Азимова, Хайнлайна, Дика и Кларка — ещё дольше. Фильмов тоже смотреть—не пересмотреть. Вот к чему мы пришли. А чуть погодя мы решили, что этого мало — нужно не только смотреть вперед, оставаясь на том же месте, но и пытаться как бы жить будущим, быть людьми из будущего. Конечно, очевидно, что за образец мы вновь взяли землян будущего Ефремова (не каких-то конкретных личностей, а общее впечатление), а также немного вернулись к крамольной книжке «Взгляд в будущее» Фреско с соавтором. Герои нудисты? Хорошо. У Ефремова тоже отношение к наготе спокойное, как и к сексу. Много секса у героев Фреско? Хорошо. Свободная любовь? Хорошо. Огромный запас знаний и навыков, уравновешенность, честность, открытость, смелость, мудрость, медитации, стоицизм героев Ефремова, ментальное здоровье, физическая сила? Хорошо, мы будем стараться походить на прекрасных землян будущего. Мы будем думать о космосе. Осень — меланхоличная, но в то же время комфортная (хоть и не всегда) пора. Нет летнего зноя и насекомых, нет зимней стужи. В иной день очень хорошо и спокойно. Осень как будто ни к чему не обязывает. Всё тихо идёт своим чередом. Утро выходного Это полдень. Можно подольше поваляться в постели, слушая дождь. После масштабного изучения векторов мы решили в качестве отдыха от информации в свободное от работы время побольше гулять, молчать и уделять внимание простым вещам — прикосновениям рук, вкусной простой еде, горячей воде. Так, мы, например, сходили в сауну. Там было очень хорошо. Я реально отдохнула, да и Саша тоже. Перезагрузка прошла успешно. Наконец, Саша вернулся к чтению, а я ещё какое-то время продолжила жить довольно беззаботно и расслабленно. Выбор моего возлюбленного пал на небольшую работу Ницше «Шопенгауэр как воспитатель» — часть его «Несвоевременных размышлений». «Шопенгауэр как воспитатель» Ницше в основном не про Шопенгауэра. Ницше против учёных и государства, за свободу и вневременность (надо жить не по законам своего времени и своей страны, так как они случайны), также в тексте явно видны экзистенциальные рассуждения об изоляции каждого и необходимости это признать. Гений, философ и вообще человек у него — попытка уставшей от бессмысленных страданий природы понять свой смысл. Культура, государство, наука и университетская философия мешают появлению гениев и просто сильных философов; Ницше призывает государство начать прохладно или враждебно относиться к университетской философии. Целью общества должно быть создание великих людей. В общем, отличные размышления. Только со временем Саша пришёл к мысли, что их лучше читать уже после чтения самого Шопенгауэра. Ну и после эссе Ницше Саша начал грызть гранит собственно «Мира как воли и представления». Сначала, делился он, было очень, просто крайне тяжело, продвижение шло в час по чайной ложке. Но вскоре он втянулся и влюбился в обворожительный стиль Шопенгауэра, его спокойствие, уверенность, его длиннющие предложения. А главное, он стал понимать, о чем речь (и начал мне пересказывать этот великий труд), причём с лёгкостью, словно это были результаты его собственных размышлений. Но чтение всё равно шло довольно медленно, и в итоге к началу зимы Саша осилил лишь первую из четырёх книг. Тут надо кое-что прояснить. Уже под конец года я увидела в книжном сборник «Метафизика половой любви» с голой женщиной и скелетиком на обложке, прочитала в конце описание (что эта часть — часть такая-то 2 тома «Мира как воли и представления», та часть — часть такая-то, и т.д.) и ошибочно решила, что это вырезки из того, что читает мой дорогой друг (то есть главы из второй книги первого тома). Оказалось, что я перепутала книги и тома. На самом деле «Мир как воля и представление» состоит из 2 томов: первый — собственно произведение, включающее в себя 4 книги и (в оригинале, но не во всех нынешних изданиях) приложение «Критика кантовской философии»; второй же том мы в продаже не нашли вообще, по сути он является сборником комментариев к почти каждой главе первого тома. Зато он нашёлся на Википедии, точнее, на Викитеке, как и первый том; также весь первый том полностью есть бесплатно на Литрес. Оказалось, что сборник «Метафизика половой любви» содержит несколько глав-комментариев к 4 книге первого тома «Мира как воли и представления» и представляет собой весьма маленькую часть 2 тома. Собственно, две главные темы этого сборника — смерть и любовь (страсть, влюбленность), ну, есть и третья тема — этика, но она мне не особо интересна. Читается сборник хорошо. Я была рада найти ещё что-то о смерти в свободном доступе. К моменту, когда я дочитала сборник и передала Саше, он прочитал три книги “Мира как воли и представления”. Это было уже в начале нового года. Новый год мы провели дома у Саши. Перед праздником я спросила его, как бы он хотел отметить этот день — может быть, снова съездить куда-то. Он сказал, что хочет провести его со мной. Мне было приятно это услышать. Что до подарка, то я решила подарить книгу или книги, но не знала, что именно выбрать — вдруг мой любимый читатель уже их читал. Поэтому, хоть это и лишало возможного приятного сюрприза, я прямо его спросила. Он сказал, что давно уже хочет прочитать трёхтомник Харуки Мураками «1Q84». Его я и подарила ему. Но без сюрприза всё же не оставила — ещё за полторы недели заказала на Озоне маленькую белую арома-лампу с надписью Love, набор из трёх хороших хвойных масел для неё по скидке и два набора маленьких свечек. Аромалампа устроена просто: сквозной подсвечник, только свеча ставится не сверху, а внутрь, а сверху наливается вода, в которую добавляется несколько капель масла. Зажженную свечку помещают внутрь, вода с маслом нагревается, испаряется и распространяет аромат. Маслам, кстати, приписывают всякие целебные физически и психологически свойства. А Саша мне подарил френч-пресс — стеклянный с красной металлической сеткой снаружи — и хороший такой пакет кедровых орешков. Естественно, что почти всем этим, кроме книг, мы потом пользовались вместе. А кроме того, 31 декабря Саша подарил мне книгу Ирвина Ялома «Вопрос смерти и жизни» в твёрдой обложке. Книгу о реальной болезни и смерти жены пожилого автора, который сам думает о неотвратимой смерти. Саша подарил её ещё днём — сказал, что не хотел, чтобы год начался с такой грустной книги. Но книга нам с ним нужная. Очень нужная. Ещё Саша взял себе на Литрес книги «Все мы творения на день», тоже Ялома, в аудиоверсии, «Sapiens. Краткая история человечества» Харари, «Сумасшедший я или все вокруг?» Эйнштейна и Рассела, и бонусом — «Логотерапия и экзистенциальный анализ» Франкла, потому что в содержании там есть пункт «нехватка примеров для подражания», показавшийся Саше важным. Мне он об этой покупке сказал уже пост-фактум. Когда я спросила, может быть, мне оплатить это, хотя бы частично, он ответил отрицательно. Я чуть-чуть расстроилась, но он меня подбодрил. Что до самого праздничного времяпрепровождения, днём я сходила в переполненный людьми ТЦ за чизкейками и салатом чука. После этого уже и поехала к моему возлюбленному. У нас уже были накануне куплены и торт «Красный бархат», и мандарины, и овощи, и фрукты всякие, и соки, и прочее, но я все равно решила сделать так. Когда я приехала, Саша тыкался по углам, пытаясь придумать какие-нибудь украшения — ёлки у нас у обоих нет, да и гирлянд тоже. Честно говоря, иногда он как будто смущался моего присутствия. Такая у него черта. Как приехала, я попыталась быть решительной и собранной и объявила, что буду делать пиццу. Сашу это почему-то не очень обрадовало, и он предложил перенести это на первое января. Не совсем понимая, что к чему, я всё же согласилась. Саша предложил посмотреть кино. — Какое? — говорю. — «Двухсотлетний человек». Так и посмотрели. Тоже там про пожилой возраст и смерть в итоге оказалось. После фильма Саша и подарил мне книгу Ялома. Фильм, вообще-то, отличный. Много поднимает философских вопросов, не заумных, но очень важных. Главный из них — кто такой человек. Весь фильм про это. Но также и про этичное отношение к андроидом, например. Посмотрите. После него уж я решительно отправила нас на кухню, делать салаты. Собственно, это было не сильно сложно и долго — я делала вегетарианское оливье, а Саша — фруктовый салат. Попозже я ещё пожарила картошки с шампиньонами в сметанном соусе. Это, в общем, и был наш праздничный стол, да ещё тарелка с ломтиками сыра. После салатов Саша вновь предложил кино. Угадайте, какое? «Иронию судьбы, или С лёгким паром». — Что? Этот унылый фильм о том, как плохо получается у людей обходиться друг с другом? Но зачем? — Да… Ну… Ностальгия, понимаешь… А вообще-то хочется просто трезвым взрослым взглядом посмотреть этот фильм. — Ну не знаю… Блин… Ну давай посмотрим. Тоже сели, посмотрели. Грустный фильм о том, как нервничающие перед женитьбой люди решили уклониться от брака. Фильм, видимо, о типичных реалиях того времени. — Так странно. Ещё ребёнком смотрел этот фильм. А теперь вот — взрослый, сам уже живу жизнь. Тоже город, человейники… Тоска эта тоже иногда накрывает… Вообще, знаешь, вот эта известная песня Аббы, Хэппи Нью Йир, она о смерти. Мне это ещё раньше вспомнилось. — Знаю. Ну уж ты совсем всё в тоску вогнал. Давай теперь моё посмотрим. Тащи сюда фруктовый салат, будем заряжаться позитивом. И я включила короткий мультик «Зима в Простоквашино», где балбес Шарик мёрзнет на печке в кроссовках, Печкин рисует фигвам, Матроскин поёт про телевизир-р-р, а маму и там и тут передают. Потом я пожарила картошки с грибами. К ночи мы сели за стол, пожелали друг другу счастья, радости и здоровья, немного выпили гранатового вина, немного поели, встретили Новый год бенгальскими огнями, послушали грохот салютов, обнялись, поцеловались, обменялись подарками, заварили чёрный чай (тоже Саша купил) в новом френч-прессе, съели по куску торта и пошли спать. Но долго мы не проспали — возбуждение превратило нас в страстный клубок переплетённых тел. После трёх часов улётного, прекрасного секса во всевозможных позах мы наконец уснули. Первый день года мы провели в полной праздности и окситоциновом счастливом тумане, наслаждаясь обществом друг друга, сначала до обеда не вылезая из постели, потом почти не вылезая из-за стола, а затем снова отправились в постель. Тогда мы ещё не знали, во что вскоре превратится мир. Что ж, всему своё время. Время жить и умирать. Время отдыхать и праздновать и время трудиться. Вернёмся к «Миру…» Шопенгауэра. Сначала кратко по первым трём книгам. — Уже одно название — это целая философия, проясняющая жизнь, — делился со мной мыслями мой милый друг. — Не знаю, почему я не задумывался об этом раньше, когда уже знал о существовании этой книги, но ещё не читал её. Мир как воля и представление. Воля и представление. Две составные, делящие мир и людей. Есть физическая сторона мира. И есть некая нефизическая. Соответственно и люди есть, которых в основном можно отнести к ориентирующимся на то или другое. Верующие люди верят в то, что мир это представление. Что его можно менять молитвами или божественной волей, или же что делами и людьми управляют бесы. Что можно наводить порчу и заговаривать болезни, талисманами отпугивать нечисть и приманивать удачу. Что, наверное, сознание (или подсознание) определяет бытие. Что есть невидимый, духовный мир, рай и ад, а наш мир — лишь иллюзия. Магическое, фантастическое мышление. Кажется, в основном на протяжении истории оно доминировало. Люди умирали за веру, людей убивали за безверие. В Дагестане и сейчас к атеистам очень плохо относятся. Другие же верят (да, тоже верят) в то, что мир это воля. Что окружающие нас предметы не бесплотны, а вполне реальны. Что есть только физический мир. Они пытаются его понять и объяснить наукой, зачастую делая из науки религию. Во имя науки тоже приносилось и приносится много жертв. Про опыты над миллионами животных ты и сама знаешь. А есть третий путь — где-то посередине. Я больше склоняюсь к тому, что мир почти целиком «воля» и лишь чуть-чуть — «представление». Шопенгауэр наоборот больше думал, что мир в основном представление. Собственно, его Воля чем-то похожа на вездесущего бога, с низким уровнем сознания, видимо, как раз в силу рассеянности в пространстве. Этот его Бог — удивительный творец, но он творит создания, пожирающие друг друга и не могущие жить иначе. Тем не менее, хотя всё это лишено смысла, он всё творит и творит, лишь бы не останавливался ход колеса Сансары. Шопенгауэр называет волю жадной и вечно голодной. Да, конечно, очень хотелось бы, чтобы в нашем мире была магия, чтобы были чудеса. Чтобы во тьме можно было наколдовать свет, на холоде — огонь, чтобы с работы телепортироваться домой, а дома взмахом пальца приготовить еду и сделать уборку. Чтобы можно было манипулировать материей, движениями рук прямо из воздуха создавать объекты, рисовать объёмные картины. Чтобы прикосновением можно было лечить. Чтобы уметь летать. Чтобы было не так скучно и грустно. Чтобы были эльфы и феи. Фэнтези типа «Властелина колец», «Скайрима» и аниме про попаданцев в мир мечей и магии очень популярно, так что, наверное, подобного хочется большинству людей. Но это не так. Люди верили в алхимию, в эликсир бессмертия. Но так ничего и не вышло. Наш максимум — лекарства, энергетики, кофе и чаи, да беспроводная связь. В первой книге Шопенгауэр говорит, что мир это как раз представление. Что весь мир существует для чьего-то глаза, пусть даже насекомого. Он много говорит про субъект и объект, пишет, что традиционный взгляд на мир содержит неразрешимое противоречие, противопоставление субъекта и объекта — я помню, у тебя про это было в конце дневника. Он говорит: да, с двух традиционных точек зрения (исхождения субъекта из объекта или объекта из субъекта) непонятно, как могло бы появиться существо, для которого будет существовать весь мир, если бы сначала уже не было мира, в котором появилось бы это существо. Это наш исторически-эволюционный подход — сначала ничего, возможно, вневременная сингулярность, потом Большой взрыв, потом образование горячих планет из газа и пыли, потом остывание, «первичный бульон», зарождение жизни, потом ее усложнение. На всё про всё какие-то миллиарды лет. Я сначала не понял, как Шопенгауэр решает эту возникающую при обычном подходе дилемму, но потом понял, что решает он её следующим образом: время (и пространство), заявляет он — фикция, система координат для нашего ограниченного разума. Что нет истории, прошлого, будущего; всё происходит одновременно. Он хотел бы сразу вместить в наши головы всю свою концепцию, но не мог избежать при написании текста линейного подхода, старался как мог, чередовал мир как представление и мир как волю, но всё равно это не то. При первом прочтении ты не знаешь, что он скажет в середине и конце книги. Поэтому он и просит читать её дважды. Удивительно. По сути, чистейший солипсизм: нет меня — нет мира. (Он позже так и заявляет, слово в слово, то, что любит повторять Бурлан: без субъекта нет объекта. Это про квантовую физику и эффект наблюдателя.) Но дальше он всё раскладывает по полочкам, обосновывает и доказывает. У него есть ещё и мировая Воля. В первой книге автор писал, кроме того, про понятия (смешно, да), про абстрактное восприятие, про роль философии и философа (она в том, чтобы явленное в реальности и интуитивно понятное изложить в абстрактных понятиях). Говорил он про логику (с презрением, про Гегеля – с ещё большим презрением), про математику, биологию. Что для понимания работы разума и сознания посещал психбольницы. Он в том числе написал, что если бы не наши органы чувств, особенно глаза и осязание, мы бы не знали своих границ и кто мы есть. Я с этим глубоко согласен. Я себя не чувствую. Иногда, когда я иду по улице, мне вдруг кажется, словно я — тигр или волк, и мне видится, как эта моя сущность, звериный контур, опускается на все четыре лапы, и так я и иду дальше, видя и свои ноги, и очертания передней половины зверя, словно я сижу у него на спине. Или вот идёт мимо человек с собакой, так мне кажется, словно моя голова увеличивается, открывает зубастый рот и летит на собаку, и проглатывает её (это как в старом известном фильме «Мумия» в известной сцене с песчаной бурей и самолётом). Не знаю, конечно, может быть, я сумасшедший. Меланхолик-ликантроп. В конце первой книги автор вдруг критикует стоиков. Как я рад, что хотя бы со стоицизмом познакомился до чтения Шопенгауэра. Он говорит, что идеал стоиков недостижим и безжизнен, а вот Иисуса Христа в качестве идеала он хвалит. Его и Ницше хвалил. Странная у этих двоих позиция по отношению к христианству. Вроде отвергают, но в то же время глубоко принимают. Так вот, Шопенгауэр говорит, что присущее почти только стоикам разрешение на самоубийство и постоянные призывы к нему по случаю и без свидетельствует о том, что они, слабаки, искали лишь легкой жизни и удовольствий, как эпикурейцы. Ну, он подробней в книге свою позицию разъяснил, конечно. Во второй книге речь про физику и законы природы. Автор попытался объединить расчленённые науки, к чему призывал Фреско. По Шопенгауэру получается, что за материю (количество которой неизменно) постоянно борются различные силы природы; он, кажется, и волю призывает считать покамест силой природы. Поэтому всегда есть напряжение. Вот большой магнит поднял железо; но гравитация стремится оторвать его от магнита и уронить на землю. Так и с живыми: во-первых, постоянно идёт борьба за тело; во-вторых, небытие, как гравитация, тянет к себе всё. В жизни оно регулярно побеждает жизнь сном, в финале, когда тело окончательно устаёт бороться с постоянно претендующими на него небытиём и другими организмами, пока бестелесными, — смертью. Воля постоянно борется за материю, за возможность воплотиться. Поэтому в животном мире кто-то кого-то постоянно жрёт. Вводится понятие «ступень объективации воли» (под «объективацией» вроде бы можно понимать «воплощение»). На нижней ступени силы природы и неживая материя (камни), далее — растения, потом — животные, затем — человек. — Слушай, поразительно. Юнев эти четыре ступени объективации воли превратил в степени развития человека или вектора в человеке. — Да, я об этом же подумал. Да знаешь, и у Бурлана это было. Например, вегетарианство там объяснено зрительным вектором, доросшим только до животного уровня развития, плюс тут же и страх смерти [животных], и поиски духовности с желанием праведной жизнью заслужить у Бога вечную жизнь. Впрочем, это больше по Юневу. Действительно, часто бывает, что зоозащитники и просто любители животных (скорее именно они) под постом о жестоком обращении человека к животным пишут: бедный котик (например)! Чтоб этот урод (человек) сдох! — Да, я тоже такое замечаю повсеместно… — Ну вот. Так ведь и нудизм они объявили низким уровнем развития зрительного вектора. Вместо обнажения «души» — обнажение тела. Понимаешь? Не может быть у них ни искреннего сострадания животным, ни позитивного отношения к телу своему и других и желания комфортно загорать и плавать. У них всё сводится до векторов. — Да? Блин, ну это очень грустно. Может, в ряде случаев они и правы. В случае с зоолюбителями — часто правы. Но с нудизмом, имхо, вообще за уши притянуто. Ну да, есть у меня да у тебя звуковой вектор. Так ведь у нас по тесту вообще все вектора есть. Ну и что теперь? Может уретральным вектором начать всё объяснять и неприятием всех рамок? Так а что тогда, на нудистском пляже сплошь Ленины лежат и бродят, вожди народов? Звонят подружкам и приглашают к ним присоединиться? Ну да, конечно. — Вот в этом-то и проблема, Ань. Уже как религия эти вектора, как Библия. Конкретики нет, всё можно поворачивать в любую сторону. Одним и тем же местом и доказывать, и опровергать. При этом иногда отчётливо ясно, что за уши притянуто и что сову на глобус натягивают. Но для человека это смысл жизни, без этого он в состоянии экзистенциального кризиса. Он от этого опиума не откажется. Будет до последнего защищать систему, в которую верит, которая для него смысл жизни или по крайней мере объяснение и оправдание жизни, а в крайнем случае проявит к тебе агрессию или скажет «ну да, твоя правда, но я так жить не могу, я лучше буду глупым, но счастливым в своём неведении. Это мой выбор, оставь меня в покое». Ты думаешь, у Шопенгауэра нет противоречий, слабых мест в концепции? Конечно, есть. Но его объяснение мира очень полное. Очень заманчивое, чтобы в него поверить. В третьей книге «Мира как воли и представления» про искусство. В конце — большая глава про музыку, которой автор отводит особую роль: музыка есть сама воля, выражение воли. Шопенгауэр пишет: «Мир можно назвать как воплощённой музыкой, так и воплощённой волей», — ставя музыку на первое место. — Тревожно мне как-то стало от этой мысли. Сейчас расцвет тяжёлой музыки. Получается, мировая воля звучит как дэткор? — Не знаю, Ань, не знаю… В общем, в третьей книге на самом деле вроде как раз впервые и сказано, что пространство и время существуют лишь для нас как система координат. Наше познание ограничено, наука и опыт работают с частностями и никогда не доберутся до сути. В отличие от созерцания чистого познающего субъекта, познающего идеи. Понять сущность мира значит видеть за частностями вечные идеи (тут Шопенгауэр говорит про Платона и его знаменитую пещеру, в которой мы видим лишь тени на стене). Все конкретные временные явления — рябь на воде. Наверное, в итоге квантовые физики придут к тому, о чём писал Шопенгауэр. Если время — иллюзия, возможны путешествия во времени? Или, наоборот, невозможны, потому что времени и истории нет? Возможны ли параллельные временные линии/параллельные миры и переключение между ними, как в Steins; Gate? Про гениев. Гении — зрительные звуковики. Учение о свете Гёте. Я — ты — мы, я — оно. («Я и ты» Мартина Бубера.) Искусство — это истинное бытие, схваченные и выраженные вечные идеи. (Параллели с Камю.) Вектора в людях/появление людей с определёнными векторами продиктовано не Богом, а мировой волей. Боевые искусства — явления, айкидо — чистая идея боевого искусства, источник всех форм? Всё прекрасно, ибо может вырвать человека из обыденного суетливого сознания, обусловленного волей, мотивами, и сделать чистым субъектом познания, ввести в медитативное безмысленное созерцание, отключить внутренний диалог. Ну, штош. Теперь к небольшому сборнику «Метафизика половой любви» и к четвёртой, самой спорной книге «Мира как воли и представления». В сборнике мне больше всего понравились главы о смерти — «О ничтожестве и горестях жизни» и «Смерть и её отношение к неразрушимости нашего существа». Если первая просто шикарна и гениальна в своей простоте и «гладкости», ясности, лёгкости, то вторая больше и сложнее, запутанней. В первой Шопенгауэр говорит (и доказывает), что мы живём в худшем из возможных миров, и что сама жизнь довольно скверная штука, и что лучше бы совсем не рождаться. «Человек человеку волк», пишет он. Приводит высказывания известных людей на эту тему. Ругает оптимизм. Во втором же комментарии… Автор доказывает, что может быть только два варианта. Или мы до рождения и после смерти никогда не были и не будем, или были и будем всегда до и после. Вариант христианства (никогда не были и всегда будем после) он отвергает и критикует. Шопенгауэр хвалит буддизм и Веды и оперирует понятием метемпсихоз, с оговоркой, что в его понимании лучше подошло бы всё же другое слово. Я погуглила и выяснила, что метемпсихоз, или метемпсихозис, это реинкарнация — переход одной души или сущности из тела в тело. Действительно, не совсем то, что у Шопенгауэра. Он говорит примерно следующее: материя неизменна, явления приходят и уходят, никто не рождается и не умирает. Каждый живой организм это воплощение единой воли; одна и та же воля воплощается в разных обличьях. Самое главное вот что: индивид, или сознание, привязаны к мозгу, поэтому возникают и умирают вместе с ним. Для индивида не было до и не будет после. Но в качестве воли и идеи он был и будет. Шопенгауэр подробно останавливается на роде и сходстве индивидов одного рода. Он поражается, что кошка в его времени такая же, что и триста лет назад, да и люди примерно те же. Также он говорит, что сброс сознания после смерти индивида для воли необходим: она бы не выдержала количества страданий, если бы помнила все страдания из всех прошлых жизней. Философ делает акцент на том противоречии, что камни существуют веками, тогда как намного более сложные живые организмы живут совсем мало, и приходит к выводу: для природы смерть или жизнь индивида не имеют никакого значения. На этом моменте я начала загоняться. Ну да, кто я такая, кому я нахер нужна. Но мозг тут же дал ответ: Саше, папе, маме. Получается, что близкие отношения держат нас в заложниках в этой жизни, не дают из неё с лёгкостью устраниться. Впрочем, это очевидно. А потом Шопенгауэр курсивом пишет: всё сущее/существующее существует необходимо. Шопенгауэр существовал бы раньше или позже или вообще бы не существовал, если бы так было нужно. Если он существует здесь и теперь, значит, именно так было нужно. Я думаю, это и есть причина, удерживающая его от самоубийства в этой крайне низко ценимой им жизни. Но вот размножаться уже он не стал. Я думаю, это мне подходит. Если я существую, значит, так нужно… Правда, в «Метафизике половой любви» он говорит, что воля толкает индивидов с компенсирующими друг друга чертами к размножению вопреки разуму для сохранения рода. Вот и всё великое «так нужно». Но я предпочту об этом забыть. «Метафизика…» у него интересная, но не могу много о ней сказать. Вся суть в том, что воля хочет продолжать воплощаться, вот и вся «любовь». Любопытными оказались мысли Шопенгауэра об однополой любви (а также о влечении стариков к мальчикам — я и не знала, что раньше это было так распространено). Действительно, если целью любви является размножение, однополая любовь не укладывается в концепцию. Но автор её уложил. Он сказал, что это тоже проявление воли, только наоборот. Она не хочет, чтобы рождались слабые особи, поэтому людей, у которых бы они родились, исключает из цепочки размножения, но так как либидо у них имеется, она милосердно отправляет их в однополые отношения. Гениально. Но мои с Сашей мысли пошли дальше. Учитывая, что в «Смерти и её отношении…» Шопенгауэр сказал о прямой зависимости рождаемости от смертности, напрашиваются выводы, что чем больше будет перенаселение, тем больше будет ЛГБТ+-людей. Саша вспомнил книгу Бёрджесса «Семя желания» и сказал, что государство будет вести ту же политику, что и воля: при перенаселении поощрять ЛГБТ+ (получается, это сейчас происходит на Западе), а также каннибализм и войны, а при дефиците населения будет очернять ЛГБТ+ и поощрять рождаемость мягкими или жёсткими способами. (Ефремов писал, что в наше время население это для властей ресурс, поэтому в целом власти хотят больше населения. Он говорил, что для контроля численности населения иногда людей травили, а иногда женщин, когда люди не хотели размножаться ввиду херовых жизненных условий, отправляли типа на фермы, чтобы они постоянно рожали, как коровы.) Тут зашла речь про так называемое окно Овертона — в известном ролике на Ютубе принцип его работы продемонстрирован на постепенном внедрении идеи нормальности каннибализма в массовое сознание. Кроме того, мой друг даже предположил, что массовое вымирание целых видов животных и растений в наше время может быть метафизически связано с тем, чтобы дать материю новым рождающимся людям (ведь население планеты неизменно и быстро растёт). Ещё Шопенгауэр сказал, что если сон — брат смерти, то обморок — близнец. У Саши был опыт обмороков, и я об этом знала, но тут расспросила подробнее. Он задумался и сказал, что, вообще говоря, обморок состояние интересное и ему теперь даже хочется снова в нём оказаться, чтобы лучше изучить. Он вспомнил Достоевского, который со временем начал проявлять интерес к собственным эпилептоидным припадкам и высоко стал их ценить. В целом, сказал Саша, обморок — это когда тебя нет, но тебя это не волнует, именно потому что тебя — нет. Очень спокойное состояние, в котором нет ни времени, ни эго. Даже почти некое безопасное убежище. Полное отсутствие сознания. Гипер-сон в долгих космических полётах должен быть таким же, иначе никак. Можно лететь тысячелетия, не умирать и потом проснуться, совершенно не заметив прошедшего времени. Тебя просто выключили-включили. А что было между этим? Ничего. Саша поделился одной историей. Однажды в обмороке в больнице, как ему потом сказали, у него начались судороги, он упал на плитку, но ничего не почувствовал. О судорогах он услышал от испугавшихся медсестёр, а плитку увидел сам. Выход из обморока был как новое рождение. Сознание и память, самосознание, язык и чувство своего я ещё не загрузились, он смотрел на плитку как чистый субъект познания и воспринимал её целиком, без мыслей, без названия, ничего не слыша, она заняла всё видимое пространство у него перед глазами, как небо Аустерлица. Он ощущал перед ней удивление, но в то же время был полон безмятежности и покоя. Лежать на холодной плитке ему было очень хорошо. Во сне, в отличие от обморока, мы видим сны, картинки, сюжеты, переживаем из-за чего-то. В обмороке нет ничего, кроме покоя. Иногда при медитации у меня получается попасть в такое состояние. Я словно оказываюсь в космосе и вижу Млечный путь и далёкие звёзды, только мне, как Саше на холодной плитке, очень комфортно и спокойно. Там не так темно, что хоть глаз выколи, а комфортно темно. Я не задаюсь вопросами, как я могу неподвижно висеть в космосе без скафандра. Всё кажется абсолютно нормальным. Вокруг меня во все стороны пустое тихое пространство, мне ничто не угрожает. (В этом внутреннем космосе, в отличие от настоящего, нет неслышно летящих на огромной скорости смертоносных камней.) Ещё забыла сказать, что в «О ничтожестве и горестях жизни» Шопенгауэр говорит, что положительные эмоции и события отрицательны, так как мы их не чувствуем, как, например, здоровья и своего тела, пока всё хорошо. Отрицательный же опыт (страдания) Шопенгауэр называет положительным, поскольку его мы чувствуем. В отличие от меня, пытавшейся найти в тексте важное и ценное, Саша раскритиковал «Смерть и её отношение…» за мелочи. В первую очередь ему не понравилось издание. В самом начале философия названа «заботливой смертью», тогда как правильнее было бы перевести – “подготовкой к смерти” или “заботой о смерти”. Вскоре на глаза попадается святотатство «Апология Платона». Саша полез в интернет. В аудиоверсии этой главы не оказалось. Между тем, нашлись некоторые другие — и все в озвучке Ирины Ерисановой. Она озвучивала «Тошноту», «Так говорил Заратустра», большое, но непонятное издание «Избранные главы» по «Миру как воле и представлению» (из которого и вытащили в отдельные аудио-видео отдельные главы типа «О ничтожестве и горестях жизни»), а также, как мы потом узнали, «Цитадель» Экзюпери. Интересный она наверное человек. Данная глава на Викитеке открыла, что в сборнике сплошняком перевели всё — и текст Шопенгауэра, и цитаты на латыни, французском и английском, не оставив оригинальных цитат и не вынеся перевод в примечания. А перевели криво. К сожалению, на Викитеке есть все эти цитаты, зато нет перевода. Издевательство. Но ничего. Мой искатель истины нашёл-таки хорошую версию. Выяснилось, что есть два перевода «Мира как воли и представления»: Ю. И. Айхенвальда, как раз нам доставшийся, и М. И. Левиной от 1993 года. Как по понятливости, так и по оформлению Саше намного больше понравился вариант Левиной. К большому своему счастью, позднее на том сайте он нашёл полное издание (оба тома) в её переводе и сказал, что однажды, когда прочитает Канта и Бхагавад-Гиту, перечитает творение Шопенгауэра, как тот и завещал. Только не по очереди оба тома, а читая указанные главы второго тома после глав первого, чередуя таким образом два тома. Несмотря на отличный перевод, сам текст главы Саша раскритиковал. Так, его не устроило постоянное уравнивание человека (у которого есть индивидуальность, как внешняя, так и внутренняя) с животными (у которых, действительно, нет разницы между нынешней и жившей века назад кошкой). Пик его критики пришёлся на фрагмент, где Шопенгауэр говорит, что родившееся животное так же тождественно умершему (если они одного вида/рода, например, муха), как проснувшийся утром человек уснувшему вечером (речь про одного и того же человека) — и наоборот. То есть люди то же, что мухи. Умер один человек, родился другой — а разницы как будто и нет совсем, мол, и тот и тот хомо сапиенс, идентичны. А то, что это совсем разные люди, и что каждый человек уникален, что люди — не мухи, автор словно не понимает. Он не понимает, что Шопенгауэр — это Шопенгауэр, что он такой был один и больше такого не будет. Саша — это Саша, а не Шопенгауэр, и уж тем более я не Шопенгауэр. Мы не идентичны друг другу. Индивид смертен, хоть род и остаётся жить. — Ты же наверно и сама знаешь, хотя может и нет, что Бурлан эту идею бессмертия рода преподносит звуковикам как финальное, главное откровение, насколько я знаю. Смерти и связанной с ней бессмысленности жизни нет, ведь род живёт. Ерунда. Не поможет это мне. Другой подвергнутый разносу фрагмент — и я со своим другом в общем-то согласна — тот, где Шопенгауэр в каждом предложении использует как аргумент формулировку типа «немыслимо, чтобы…», «невозможно, чтобы…», «это было бы слишком абсурдно и глупо…». Я тоже обратила внимание на обилие таких штук при чтении. Шопенгауэр реально их использует как доказательства. Это то же самое, что заявить «абсурдно, что я, такой особенный, умру, такого просто не может быть, нет, я не умру» и выставить это за доказательство бессмертия. Позднее мы узнали, что Дэвид Юм (которого, блин, сам же Шопенгауэр и упоминает, значит, читал) обратил на такой фокус внимание. Я, говорит Юм, не понимаю, почему все от этого «невозможно, чтобы это было так» приходят к убеждению, что это неоспоримый факт, своё мнение превращают в доказанную истину. Чёрт, да, я с ним согласна, а уж Саша, когда прочитал, был готов это место распечатать, поцеловать и повесить в золотую рамочку на видное место. Следующий пункт критики вытекает из предыдущего. Поскольку Шопенгауэр построил часть своих размышлений на неточных аналогиях и вот этих железобетонных «мнениях», что возможно, а что ну никак не возможно, то велика вероятность, что он ещё где-то желаемое выдал за действительное; значит, и вся его теория, возможно, неверна. И получается вот что: — Где деньги, Лебовски? Точнее, — Где факты? Где доказательства? Нету их. Это не физика, а метафизика. Значит, что остаётся? Только поверить, что это всё правда, что так весь мир и устроен, что Шопенгауэру, избранному, открылось сокровенное истинное знание, как пророку. Он, по сути, предлагает новую религию. Я уже не могла молчать. — Факты? Ну иди, найди эти факты! Сгоняй в посмертный мир и обратно, расскажи, как там на самом деле. Так, как Шопенгауэр говорил, или нет. Сгоняй в мир до рождения. Найди величину, которой будешь измерять Мировую Волю. Чем блять ты её уловишь, каким инструментом? Оставь это квантовым физикам, но дай им время, столетия, чтобы они нашли тебе «факты». Блять, да в конце концов, тебе важнее у Шопенгауэра научиться чему-нибудь или его выставить невнимательным дураком, обесценить у него всё из-за каких-то долбаных мелочей? Правильно Фромм в «Искусстве быть» заметил, некоторые читают не чтобы что-то узнать, а чтобы раскритиковать автора. Ну молодец, ты у нас умнее Шопенгауэра. Звуковик. Что ты, такой мелочный, такой слепой, что совсем не видишь целого? За деревьями, за кустами леса не видишь? Саша ничего не ответил, плюнул и ушел. Я сразу же пожалела о своих обидных резких словах. Смешно, но я так среагировала, будто и впрямь на мою религию напали. Почти тут же Саша вернулся. — И тем не менее, тем не менее толку ноль. Я понимаю, что сам отвергаю предлагаемый мне путь к упрощению взгляда на жизнь, но Шопенгауэр ясно выразился: индивид появляется из ниоткуда и навсегда исчезает после смерти. Мы… У нас есть только эта грёбаная жизнь, Ань. Ни до, ни после. Только это. Больше ничего. Мы умрём, ты, я, и больше ничего не останется. Я себя чувствую Мисаки из ЭнЭйчКей: мне было бы легче, если бы я мог во всё это поверить, поверить в то, что всё зло в мире от дьявола, но я не могу. Горечь — это не что-то вещественное, но тогда я явственно ощутила её вкус. Горечь, подавленность и безысходность, бессилие и беспомощность, заброшенность в чуждый беспощадный мир, перед которым я — насекомое или ещё меньше и незначительнее. Мне горестно, хоть Шопенгауэр и говорил, вслед за кем-то из древних, что смерть не есть зло. Он объяснил, почему это утверждение не работает (потому что оно рассудочное, а мы — не имеющая разума воплощённая воля к жизни, которая, хоть и вездесуща, ошибочно «думает», что со смертью её воплощения она исчезнет, поэтому все боятся смерти), но от этого не легче. Ещё он сказал, что тело нас ограничивает и избавление от него, выход за его рамки это хорошо, и что вообще не следовало бы воплощаться в теле, то же самое относится и к рамкам индивидуальности, от которой тоже хорошо наконец избавиться в смерти. Я подумала об этой избитой фразе про смерть эго, вообще про схожую риторику в теме осознанности и всего подобного, а ещё — про экзистенциальную изоляцию, мучительную для каждого, покуда он отделяет себя от остальных. Хотя я и сказала, что раздел об этике мне был не интересен, в начале и конце было несколько важных моментов: во-первых, внезапно, ясно высказана одна из ключевых идей экзистенциализма (человек действиями сотворяет сам себя); во-вторых, ясно показано, что мы созданы отнюдь не для счастья, а скорее для страдания, вплоть до того, что смерть называется главной целью жизни (непонятно, почему тогда всё-таки Шопенгауэр не покончил с собой). Ещё автор вновь говорит о том, чем и как должна заниматься философия. Но, в общем-то, и всё… Если не считать спорных, разрушительных для привлекательности философии этого мыслителя идей из большой главы «К учению об отрицании воли к жизни», вызвавшей у меня лёгкое удивление и недоумение, а у Саши — попросту ярость. — Как, как можно быть настолько слепым, настолько вдруг непоследовательным? Сначала он говорит, что философия должна оставаться космологией, основываться на фактах из внешнего мира, не лезть в теологию (так что возникают сомнения насчёт такой штуки, как религиозный экзистенциализм) — а затем прямо говорит, что основывается на заключениях брахманизма, буддизма и христианства? Сначала говорит, ты представь себе, что основывается на словах Лютера, а потом ругает протестантизм? Какая ещё такая блядь вина лежит на человеке по факту рождения? Это уже не философия Шопенгауэра, это философия Лютера, поэта и остальных указанных (а именно христианского поэта Кальдерона, апостола Павла и Августина). Блядь, вот теперь я понял, почему Ницше отвернулся от Шопенгауэра, теперь я понял! Вот из-за этой блядь главы в самом конце второго тома! Основывается на том, что раз нам по мнению верующих нужно «искупление», «спасение», значит, мы все в чём-то виноваты? А это ещё что за хуйня — человек приходит в мир по своей воле??? Это каким образом? Значит, где-то до рождения уже есть сознательный взрослый человек или хотя бы его сознание, и вот он, значит, взвешивая все за и против, решает родиться и прожить жизнь на Земле — и в этом виноват? Что за безумие? Уж хотя бы тогда надо задуматься, почему это сознание решило-таки, несмотря ни на что, родиться, прожить жизнь и умереть, а не не рождаться! Нет, я понимаю, это бы ещё вместилось в концепцию традиционной реинкарнации, перемещение одной сущности из тела в тело. Тогда, прожив жизнь и имея о ней представление, эта неведомая сущность ещё могла бы выбрать новое рождение. Но ведь это входит в противоречие с тем, что наш мир полон страданий и перевоплощение — ошибка, что лучше всего конец перевоплощений, окончательное исчезновение, Нирвана. Традиционно перевоплощение рассматривается как наказание (кем?) за косяки в прошлой жизни. Но у Шопенгауэра же ясно сказано, что между воплощениями личность не сохраняется. Так кто же тогда блядь «выбирает», рождаться ему или нет, в этой грёбаной метафизике?! Почему все от рождения в чём-то виноваты?! Что блядь за шиза религиозная? Позднее я, пролистнув заново «О ничтожестве и горестях жизни», предложила Саше такое объяснение: видимо, Шопенгауэр посчитал, что раз вся наша жизнь полна страданий, то она похожа на наказание, а значит, мы в чём-то виноваты. Иными словами, Шопенгауэр не исходит из виновности, а приходит к ней, не приходит к страданиям как справедливому наказанию за вину, а использует их как отправную точку, чтобы, задавшись вопросом: «Почему?» — прийти к абсурдному выводу: «Наверное, мы в чём-то виноваты». Сашу это всё равно не устроило. Главным объектом его нападок стало вот что. — Какого хуя? — Вопрошает мой друг. — Какого хуя он винит мир в том, что он полон страданий, если абсолютно ясно видно, исходя даже из перечисления им страданий, что в страданиях виноват не мир, а ёбаные люди? Людей на этой планете вообще не было почти всю её историю, это не планета людей, это планета растений и животных. То, что в природе кто-то кого-то постоянно жрёт, чтобы потом самому умереть — это другой разговор. В своей бессмысленности природа напоминает мне планету Солярис. На её поверхности образуются различные образы, а потом гаснут, а нахрена это всё — непонятно. Но это даже нельзя назвать страданием. Животные реально просто воля, они одинаковые, смерть и жизнь безразличны. Но почему он уравнял полностью животных и людей, если у животного нет личности, а у людей есть, если за всю историю был только один Сократ, один Платон, один Гомер, один Гёте, один Шопенгауэр? Так вот, говорю я, какого хуя он скидывает ответственность за страдания на мир и природу, если львиная доля страданий это свободное предпочтение зла добру людьми? При чём тут мир и природа, если это тиран решает развязать войну, а людишки покорно на неё идут? При чём тут мир и природа, если в тупой системе человек без денег живёт на улице у всех на виду, питается из помойки и умирает? При чём тут мир, если это жадный равнодушный к людям работодатель доит их как коров по максимуму ради максимальной прибыли? При чём тут блядь мир?! Каким боком пассивный мир причастен к тому, что Гитлер стал главой нации, которая с радостью пошла уничтожать неверных, стала отправлять людей в концлагеря и печи? Да в конце концов, есть хоть какая-то свобода воли, какая-то ответственность за зло на каждом, или «это всё мир и природа, не мы таки, жизнь така»?! Ёбаный в рот, что за беспардонный перевод стрелок!!! Как удобно! Люди-уроды ни в чём не виноваты по отношению к другим людям, это просто априори мир полон страданий и не создан для счастья! Сука, ну как так? И что же он далее предлагает? Страдать! Страдать, сука, чтоб его!!! Ходить в цепях, ненавидеть своё тело! Сука, да будь ты хоть чуть-чуть частью природы в этом моменте, а не конченым больным человечишкой, скажи мне, кто из животных ненавидит себя за то, что пожирает других, за то, что трахается и размножается? Ёбаный стыд эти верующие, почему им не приходит в голову здесь то, что каждый создан по образу и подобию божьему и что всё это так задумал их чёртов бог — что есть половые органы и влечение, что рожает женщина через вагину, что в принципе у женщины есть вагина и, значит, её тоже придумал бог, как и член, эрекцию и сперму у мужиков, а значит, это всё божественно, священно, какого хуя они всё объявили грехом, развратом, похотью, заклеймили стыдом и позором, если это всё было так специально задумано и, видимо, одновременно у Бога в наличии, если мы, и мужчины, и женщины, созданы по его подобию? Больные животные! Правильно Ницше на них накинулся, правильно! Ёбаные аскеты, ну сидите в своём монастыре и сходите коллективно с ума, сидите в своей пещере и сходите с ума, но не лезьте вы к нормальным людям! Презренные удобства? Я посмотрю, как будет просветлённый святоша жить на улице зимой в России, ночевать зимой на улице! Милостыню просить вместо того, чтоб работать хотя бы дворником и делать полезное дело — тьфу! Потусторонники! Что вы всё отворачиваетесь! Да, блядь, вы родились, и мир полон страданий! Люди болеют и умирают! У нас есть тела! Не отворачивайтесь! Мы болеем и умираем! Не отворачивайся от десятков голых в общей реанимации! Иди нахуй со своей стыдливостью! Всем похуй на то, что ты голый! Ты выглядишь как дебил, если вопишь, что ты не нудист и требуешь свои трусы! Всем похуй на твой член и твою пизду! Господи, как меня уже все эти долбоёбы достали! Грехи, вина, тело, тело, тело, да провалитесь вы все пропадом! Страдания! Ох, страдания! Значит, надо ещё больше страдать? Ходить в цепях, отрезать клитор, становиться евнухом, никогда не улыбаться, потому что везде страдания, потому что неудовлетворённое сексуальное желание это страдание — блядь, что за долбоебизм! Да сделай ты что-нибудь полезное, если уж родился, а не ной, уменьшай страдания, а не увеличивай, блядь!! Построй тёплый приют, забери ребёнка из детдома, не будь конченым жлобом, стань врачом, психотерапевтом, выучись искусству, чтобы уметь творить, будь смелее, борись с несправедливостью, тупостью, предрассудками! Делай что-нибудь, а не молись в монастыре, помогай людям, а не смотри на них свысока или с чёртовой жалостью! Если режим плохой — поднимай революцию, поднимай народ на революцию! Виноват не мир, а люди! Землетрясение, извержение вулкана? Что с того? Они не для людей! Что за самолюбие! Смерть? Экое горе! Экое страдание! А кто сам говорит, что это не есть зло? Тьфу! Ну смерть и смерть! Хотите жить вечно, собаки?! За какие заслуги? Почему именно вы? А где будут жить другие? Цени эту краткую жизнь, а не ненавидь! А ненавидишь — хуй с тобой, иди и умри! Иди и умри! Вот к такому стоическому — они же там тоже чуть что сразу про суицид — выводу пришёл мой работавший в больнице друг. Между тем, он мимоходом сформулировал важную мысль, способную стать смыслом, маяком в неразберихе жизни: делай жизнь менее наполненной болью и страданием. Ещё в главе «К этике» Шопенгауэр говорит, что исследования по вопросам нравственности важнее научных; что наука и прогресс не способны дать счастье и утешение, только мораль способна; что его философия единственная воздаёт должное морали; что проблема философии заключается в том, чтобы нравственный миропорядок явить как основу миропорядка физического… Ницше потом выступал против морали. Ещё, забавно, упомянут принцип «валить всё на Меркурия» — в наше время общим местом стала фраза «это всё ретроградный Меркурий». Ещё в этой главе идёт речь о правах, законах, раскаянии. И есть страшная фраза: цитата: «Для обеспечения жизни граждан смертная казнь безусловно необходима». … Четвёртая книга «Мира…» Шопенгауэра — про смерть; про сомнительный довод о бессмысленности самоубийства (мол, человеческий род-то всё равно продолжит существовать, а значит, и я через него тоже) — как в «Тошноте»: «…смутно осознавал, что надо бы покончить с собой, но что это будет лишним…»; про характеры (врождённый, приобретённый и ещё какой-то) и отсутствие свободы воли у человека. Выбрать что-то одно и идти к цели, ни на что не распыляясь. Человек детерминирован своим характером. В каждой ситуации есть выбор между двумя-тремя вариантами, но выбор варианта предрешён характером человека. Сама же мировая воля безгранично свободна, так как является вещью в себе и не подпадает под действие четвероякого закона основания. Воле всегда обеспечено настоящее и возможность воплощения. Вообще есть только одно настоящее. Утверждение воли. Солнце опускается в море, но это иллюзия. Много про право. Право государство каким-то обратным путём выводит из этики. Государство придумано людьми для общей безопасности, защиты от несправедливости, ибо человек человеку волк и все эгоисты. Но идеальный мир недостижим. Человек всегда находится между страданием и скукой. Не будет страданий — будет скука. Нарушителей общественного спокойствия надо наказывать для урока другим. Имеется в виду не месть индивиду за совершённое (в прошлом) преступление, а урок другим на будущее, чтобы другие боялись повторять преступление. Частная собственность в «естественном праве» (интуитивно ощущаемом) основывается на изменении объекта либо другом вложении сил субъекта в этот объект. Несправедливость — когда воля одного подавляет, отрицает волю другого. Но в рамках самозащиты от посягательств чужой воли допустимы, справедливы и правомерны любые меры. (Идёт вразрез с законом РФ о превышении самообороны.) Когда государство (люди во главе государства) навязывает свою волю другим (идти в армию/на войну, обязательно рожать либо запрет рожать, запрет разводиться или вступать в брак и т.д.), совершается несправедливость. Справедливы любые меры. Государство не выполняет своей функции обеспечения внутренней безопасности. Вспомним Дао Дэ Цзин: лучшее государство это то, которого не замечают (лучший правитель это тот, чьё правление не замечается/тот, кто правит незаметно). Отрицание воли. Два пути: интеллектуальное познание или личное страдание, — ведут к прозрению и осознанию единой воли во всех. Вместо множественности — единое. Мучители мучают сами себя, поэтому им не нужно специально мстить. Когда человеку плохо, он начинает мучить других. Эгоист стоит на нижней ступени развития, он не признаёт в других ту же волю, воплощением которой он сам является. Для эгоиста все вокруг враги, он живёт в постоянном напряжении и одиночестве. Шопенгауэр пишет: любовь — это сострадание, но она не может идти дальше, ибо нет причин предпочесть чужую волю своей. Но тут же начинает утверждать обратное, уводит всё в сторону непротивления злу. Он начинает с отвращения к полной страданий жизни, аскетизма и быстро приходит к тому, что человек, отрицающий в себе волю (решение отрицать в себе волю — единственная свобода воли, доступная человеку) к жизни, рад, когда другим занимаются этим в его адрес (совершают несправедливость). Везде человек видит страдание, всем сочувствует, но ничего не делает для уменьшения страдания, а только увеличивает его своим бездействием и потаканием несправедливости (мол все мы связаны и делая плохо мне они сами делают плохо себе), и начинает ненавидеть эту жизнь, с нетерпением и радостью ждать смерти. В итоге он перестаёт хотеть всего, даже питать тело, и умирает от голода. Это — святой человек. «Обычное» самоубийство Шопенгауэр называет безумием и неразумным поступком, хотя сам толком не может объяснить разницу между обычным самоубийством и медленным отказом от жизни с доведением себя до голодной смерти в итоге. Разве что он делает акцент на различной сути: самоубийца на самом деле утверждает волю к жизни, он хочет жить, но не может жить так, как он хочет, и убивает себя, неудачный образец, чтобы воля могла перевоплотиться в другом. Аскет же отрицает эту волю к жизни. Далее, Шопенгауэр говорит, что когда исчезнут люди, исчезнут и животные, а ранее он писал про уничтожение мира. Шопенгауэр сквозь текст ведёт очень странную мысль: не надо мешать детям рождаться, если зародились (делать аборты), они должны родиться, познать страдание, разочароваться в жизни и прийти к голодной смерти. Автор проводит параллель: если на секунду отрешиться от воли и суеты при взгляде на картину, становится очень легко и спокойно, а значит, тому, кто постоянно подавляет волю и лишь до поры до времени поддерживает жизнь тела, очень хорошо. При этом он говорит: нельзя раз и навсегда победить в себе волю, это постоянная борьба, потому что мы и есть воля, а аскет ещё и чувствует угрызения совести при малейшей радости. То есть аскет на самом деле вовсе не счастлив. Тем более что все страдания, даже только воображаемые и потенциальные, он воспринимает как свои. В конечном счёте, когда отрицается воля, остаётся ничто. На этом заканчивается первый том, а в голову лезут мысли про «Бытие и ничто» и «Бытие и время» Сартра и Хайдеггера. Шопенгауэр, фактически, объявляет абсурдную войну вездесущей воле, отказывается от самоубийства в бессмысленной отвратительной жизни, и утверждает гордость человеческого духа, как Сизиф. Камю, при этом, кажется, ни слова не сказал про Шопенгауэра, хотя «главный вопрос философии», открывающий «Миф о Сизифе» — стоит ли жизнь (в этом худшем из миров) труда быть прожитой — неизбежное следствие появления на Земле именно что философии Шопенгауэра. Вот какое конечное мнение сложилось у моего милого товарища о «Мире как воле и представлении»: — Ну, что я в итоге могу сказать по Шопенгауэру. Думаю, он всё же был гением. Я много за что его покритиковал, но намного больше мест вызвали у меня восторг, изумление и чувство озарения. В середине я задумался: почему Библия, а не эта книга? Зачем Библия? Но потом я понял, а в конце окончательно закрепился во мнении, что это опасное взрывное произведение. Вся философия Шопенгауэра это сухой порох, а его главный труд — это целая бочка пороху. Хоть он и говорил, что ничего не навязывает, что философия не должна быть практичной, всё равно было понятно, к чему он склоняется и чего аргументами внушает придерживаться. Хоть в его тексте и много «тормозящих» элементов, много и опасных. Шопенгауэр заявляет: индивид — ничто. Всегда будут новые. А мир наш полон страданий. Все страдают. Небытие лучше бытия. Ну так получается, убивать это хорошо, а самоубиваться ещё лучше. Лозунг “уменьшай страдания” можно вывернуть так, что надо убивать, ведь жизнь – страдание, а смерть, небытие – блаженный покой. Можно убивать, потому что люди причиняют страдания другим людям, животным, растениям. Да и животных можно убивать, они все одинаковые, потом возродятся. Тем более что он намекает, что с вегетарианством не согласен. Мол, страдают только интеллектуально развитые существа. Получается, что Гитлер молодец, он миллионы людей избавил от жизни. Полной непрерывных страданий. И как чувствовать к ним жалость, если люди всё равно что мухи, если страдания вездесущи, если страдают вообще все? Чем их страдание особенней в глазах Шопенгауэра и его философии? Мне кажется, ничем. Он вообще не отделяет зёрна от плевел. Людей от мух и кошек. Страдания, вызванные голодом, холодом и несправедливостью от таких же как ты людей он уравнивает со «страданиями» от неудовлетворённых желаний. Он не отделяет реальных страданий от мелких. Да, у него расставлены по тексту тормоза, но ведь эти положения, эти его выводы, которые я сейчас озвучил, которые он тормозит, против которых заранее приводит доводы, закономерно вытекают из его же философии — и он сам это понимал. Беда в том, что его возражения против этих суровых выводов слабы и неубедительны. Да, последняя глава про самоубийство как утверждение воли потрясающая. Но всё равно для человека в депрессии эти доводы вообще не доводы. Потому что Шопенгауэр не нашёл в жизни ничего, ради чего стоит жить, он только бесконечно повторяет: жизнь — сплошное страдание, лучше умереть. Но потом непоследовательно отказывается делать так, как «лучше», хотя сам доказал всё безапелляционно, не оставил никакой надежды, никакой зацепки. Жизнь говно и лучше бы не жить. После такого заявления никакие доводы против не воспринимаются всерьёз. Именно потому что он описал жизнь как беспросветную безнадёгу. Это застревает в голове. Жить после аргументированного развёрнутого доказательства, что жизнь говно, не хочется. Я понимаю, что он восстаёт в принципе против любого хочется и не хочется, он пытается вывести человека за рамки хочу и не хочу. Надо жить, даже если не хочется. Но зачем??? Я не понимаю. Он не объясняет. Жить, чтобы терпеть эту отвратительную жизнь воле к жизни назло, только потому, что самоубийство почему-то не вариант. Вот хоть убей, но при таком раскладе самоубийство и убийство кажется ну просто неизбежным логичным вариантом. То, что самоубийство и убийство направлены против воли к жизни, чувствуется интуитивно. То, что он говорит, что это не так, уже чувствуется искажением. Логичнее ощущается: если надо идти против воли к жизни, надо убивать. У жизни слишком малое оправдание в его концепции. Да, он учит: людям надо сострадать, людей надо любить. Но он учит: человек человеку волк. За 300 лет сожжены 300000 человек. Как не стать мизантропом, если он сам им был, презирал людей, если презрение и отвращение к большинству у него местами просто сочится из текста? И вообще-то из его философии легко выводится, что бить людей хорошо. Ведь надо стремиться быть добродетельным, а это у него тот, кто страдает, ненавидит жизнь и хочет покончить с собой таким хитрым способом, который не считается обычным презренным самоубийством. А так как он сам против жизни, против себя, то он рад — так и написано, — когда другой его ударит, причинит ему несправедливость. Ну и что с этим делать? Ещё он говорит, что легально и правильно при самозащите от навязывания воли убивать. Так ведь можно тогда каждый день убивать по нескольку человек. Нам постоянно кто-то что-то запрещает и навязывает. Особенно детям. Дети были бы убийцами номер один. Нельзя съесть две шоколадки сразу? Всё, родителя можно зарезать. В школе бы творился пиздец. Точнее, всё было бы настолько херово, что школы перестали бы существовать. Учитель задаёт уроки, хотя ребёнок хочет гулять? Всё, смерть учителю, он посягает на свободу ребёнка. А уж что школьники бы друг друга перестреляли-перерезали, это и так очевидно. Потом, Шопенгауэра называют иррационалистом. Но, ради всего хорошего, скажите мне кто-нибудь, что на свете, кроме разума, рассудка, логики может вынудить человека, живое существо, обернуться против жизни? – Короче, к великому моему сожалению, – продолжил мой философ после паузы, – я и на этой системе не могу остановиться, сделать её своей инструкцией к жизни, объявить, что мир мне теперь абсолютно понятен, я не могу согласиться с ней на 100% и заявить: “Всё! Все мои мучительные поиски Абсолютной Безошибочной Истины и Ясности окончены. Я Нашёл!” Ничего я не нашёл. Каждый раз как в первый раз. Многообещающая система – надежды – разочарование. Человек обречён на свободу. Причём, понимаешь, я нутром чувствую, что это единственный верный вариант – ни к чему не привязываться, не растворяться в чужой концепции, оставаться свободным, открытым миру; жизнь словно говорит: я тебя не просто так сделала, чтобы ты растворился в готовой системе, толку от тебя тогда ноль, мучайся, размышляй и живи своей жизнью, своей уникальной судьбой вноси вклад в общую жизнь, который только ты один можешь внести; но как же меня это расстраивает. Но должен признаться: после Шопенгауэра жизнь всё-таки стала намного понятнее. Уже дышать легче. Вот как-то так. С чего вообще всё началось? Почему мы всё это делаем? Читаем, слушаем, смотрим? Потому что есть интуитивное ощущение, особенно у Саши, что если понять мир, жить станет в радость. Будет ясное понимание мира и своего места в нём, будет примерно понятно будущее. Мир перестанет быть непонятным, чуждым, отделённой от тебя загадкой. Всё прояснится. Это как выучить чужой язык и начать всё понимать и говорить свободно. Не будет никаких сомнений, никаких тревог, переживаний. При этом кажется, что искать надо не в точной науке, не в естествознании, физике, химии и биологии. Саша говорит: раньше ходили к священникам, потом ходили к философам, теперь ходят к психологам. Я бы сказала, что до священников тоже ходили к философам. В общем, возможно, некоторым нужно не к психологу, а к философии. Точнее, возможно, не только к психологу, но и начать изучать философию. А нам двоим – не знаю. Чувство, что ничего особо не помогает. Возможно, жизнь и правда ужасна и любой оптимизм это самообман. Не знаю, в чём тут дело. Даже не в смысле жизни или в материальном недостатке. Иной раз сидишь в комфорте, почти в идеальных внешних условиях, всё вроде хорошо, а так паршиво внутри. А иногда отпускает, и жить вполне можно. И глупая жизненная суета даже увлекает. И непонятно, какова же жизнь – и каково на самом деле твоё состояние. Плохо тебе или нет. Конечно, тогдашняя наша жизнь не сузилась до одного только чтения Шопенгауэра. Кроме того, что мы работали и ходили на тренировки, ели, спали и отдыхали, мы, как и собирались, внедрили в жизнь фантастику. Так как сфера чтения и без того была заполнена, мы смотрели фильмы. Вот их небольшой список, помимо “Двухсотлетнего человека”: “Гаттака” про помешанное на генах и анализах общество; глупый “Эквилибриум”; “Она” про искусственный интеллект; и “Главный герой” и “Шоу Трумана” про “выход из Матрицы”. Отдельно хочу порекомендовать “Главного героя”. Он ещё и про то, какой жизни на самом деле хочется людям. Ну а вишенкой на торте стал одновременный выход в середине декабря на большие экраны новинок “Человек-паук: Нет пути домой” про мультивселенную и (барабанная дробь) “Матрицы 4”. К сожалению, новая “Матрица”, снятая уже только половиной дуэта Вачовски, оказалась провалом, намного более очевидным на фоне всеобщего восторга от “Человека-паука” – фильма по комиксам. От “Матрицы” ждали откровений, сноса крыши, глубокой философии, а в итоге получили такое уныние, что большинству людей сразу после просмотра захотелось забыть об этом “продолжении” франшизы. Попытка выдать кино и героя за реальность не удалась. Новый Агент Смит стал главным разочарованием. Полное отсутствие харизмы. На вялого усталого Нео тоже без слёз смотреть было тяжело. Единственное, с чем кино справилось – показало, что иногда женщина становится в отношениях опорой и защитой, и что мужчина, даже Нео, может порой нуждаться в поддержке. Если раньше Нео спасал Тринити, теперь Тринити спасла Нео. А в итоге все мы порой сильные, порой слабые. Все мы люди. В начале года я подключила VK Музыку и за это получила возможность раз в месяц бесплатно разжиться неплохой книжкой из специальной подборки на Литрес. Первой моей такой книжкой стала “One simple thing. Почему йога работает” Эдди Штерна. Я мало что поняла и запомнила, но было интересно. Вот что вытащила из текста: унилатеральное дыхание (через одну ноздрю) очень крутая штука; дыхание с подражанием шуму приходящих и уходящих волн (“дыхание океана”) тоже крутая штука; внезапно, при выполнении асан (поз) надо втягивать анус, чтобы “развязалась” то ли гуна, то ли дхьяна. Когда я поделилась этой странной темой с Сашей, он только хмыкнул и сказал: “Наверное, это находится в какой-то связи с анальным вектором, но я её не вижу”. А потом добавил: “У меня и так часто внимание падает на то, что у меня, пардон, очко сжато, что там какой-то напряг, “втянутость”. Теперь я буду загоняться ещё больше. Хотя, может, это как в той технике релаксации, где, чтобы расслабить часть тела, нужно сначала её напрячь до предела. Тогда она и почувствуется, и сама же расслабится”. Ладно, проехали. Ещё запомнилось, что йога Айенгара крутая и “правильная”. А ещё – что в йоге асаны не главное, а только часть, и что помимо прочих частей важное место занимает что-то духовное, твои отношения с Богом или с Высшими Силами – такое название предлагает автор нерелигиозным людям для обозначения чего-то такого. Я даже не стала об этом говорить Саше, не желая его расстраивать. Заранее понятно, какой будет реакция, ибо она и у меня сама собой напрашивается: йога не для атеистов. Вроде классная система, вроде актуальная, потому что просто сидеть и медитировать плохо получается, и асаны то, что нужно, но… И вот везде это “но”, фатальное “но”. Всё вроде бы было более-менее нормально. Мы читали книжки, смотрели фильмы. Но потом настал конец февраля. Добавлю ещё, что Сашу незадолго до этого осенило, и он понял то, что либо не понял в силу нехватки информации и опыта, либо не упомянул Шопенгауэр. Как пишущая большой текст я понимаю, что иногда какие-то детали, пусть даже очень важные, могут забыться. Он говорит: искусство (кстати и природа тоже) выдёргивает человека из погружённости в мотивы, в суету, делает человека чистым субъектом познания. Человек освобождается от воли и её давления и требований. Но лишь на миг. Из этого Шопенгауэр и делает свой роковой неверный вывод: значит, тот, кто отрицает в себе свою суть, волю к жизни, всегда свободен от неудовлетворённости и страданий и счастлив. Значит, надо равняться на святых, заковывать себя в цепи, бить себя плетями, засовывать себя в сырые тёмные пещеры и сухие знойные пустыни, морить себя голодом. Нет. Это не то. Правильный ответ содержится в том же по сути буддизме, на котором во многом Шопенгауэр и основывался. Нужно, чтобы сознание улеглось, стало похоже на спокойное озеро, на поверхности которого исчезли волны и рябь, отчего оно стало похоже на зеркало. Летят журавли. Озеро отражает их полёт. Не нужно издеваться над собой, потому что Шопенгауэр сам же и написал, что святые на самом деле не счастливы. Это ничего не даст. Нужно, чёрт возьми, медитировать, медитировать, медитировать. Пиздец как нужно. Иначе пиздец. Иначе внутреннее беспокойство, самонакручивание, сомнения, споры с воображаемыми оппонентами и мутное состояние, когда непонятно почему плохо, сведут с ума. И только мы к этому пришли, как идеальные внешние комфортные условия исчезли, и “плохо” стало не просто непонятным внутренним состоянием на ровном месте, когда внешне всё хорошо. Внешне всё стало плохо, и нам и многим-многим-многим-многим людям реально стало плохо. Истина же такова: мы должны быть несчастны, и мы несчастны. Артур Шопенгауэр.Что еще можно почитать


Пока нет отзывов.