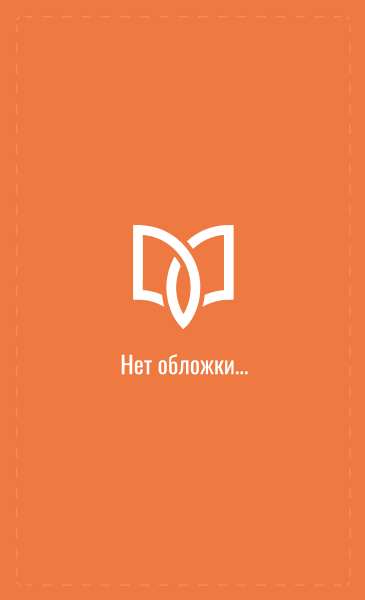
Пэйринг и персонажи
Метки
Описание
О казьмиярунасах, RPF, РМТ и о том, где найти совершенство.
I
05 апреля 2022, 08:08
Наверное, прежде всего стоит сказать, что, конечно же, автор статьи и сам не является профессионалом в писательском деле, поэтому несовершенен в нём — как и все здесь собравшиеся. Цитируя небезызвестного Ивана Геннадьевича Ожогина, который, в свою очередь, тоже процитировал одного из своих педагогов: «Не бойтесь совершенства — оно недостижимо», ну или что-то в таком духе. Эта работа — попытка собрать вместе стереотипы, ошибки, подсказки, советы, всё то, о чём в любом случае не лишним будет услышать. Возможно, здесь будет чего-нибудь не хватать или что-то покажется не вполне правильным, некорректным — тогда автор будет рад любым отзывам, критике и дополнениям.
А ещё (если только автор чего-нибудь не пропустил) конкретно в фандоме РМТ вообще не публиковалось таких статей, хотя этот формат, безусловно, довольно полезен, поэтому «Сборник советов» и появился на свет.
Итак, речь, очевидно, об РМТ, или русском музыкальном театре, и, в частности, о такой его области, как RPF, — проще говоря, о том случае, когда объектами нашего внимания становятся не персонажи, а реальные известные личности. А ещё в РМТ можно найти некий случай «на стыке», когда пусть мы и пишем о несуществующих, выдуманных героях, но те или иные аспекты их взаимодействий друг с другом проистекают из взаимодействий друг с другом самих артистов (да, Брут и Бродяга, Раскольников и Ипполит, я сейчас именно вас вспоминаю, и прочая, и прочая, и прочая). Но что поделать, если любимые нами артисты рождают не один, RPF-ный, а сотни различных миров?
Если на данном этапе читатель заметил, что речь идёт лишь о пэйринге казьмиярунасов, то нет, это не единственное, о чём автор здесь скажет, но этот пэйринг действительно богат на работы, поклонников, авторов (ну и, что уж тут спорить, контент) куда больше других. Так сложилось; причиной тому, автор думает, множество факторов, но это не совсем тема данной работы, поэтому просто примем как данность, что в большей степени RPF для фандома РМТ означает «казьмиярунасы и всё, что с ними связано».
Вводную часть следует завершать, чтобы совсем уж не потерять нить рассуждений. Ниже последует то самое, с чем мы как авторы имеем дело, когда речь заходит об RPF в РМТ.
Итак, прежде всего о героях. Ну, в большинстве случаев главные действующие лица — всё-таки Александр и Ярослав, верно? Конечно же, автор нисколько не хочет принизить роль в фандомном творчестве образа Кирилла Гордеева, или Ивана Ожогина, или Елены Газаевой и Веры Свешниковой, но всё же куда чаще они, если мы о них пишем, становятся второстепенными персонажами: друзьями, наставниками, врагами, да кем угодно ещё для центральных героев. И здесь, если говорить про казьмиярунасов, как авторы мы нередко ориентируемся в большей степени на работы, написанные до нас, что одновременно и хорошо, и не очень.
Да, очевидно, что почти всякий автор первоначально и сам был читателем; правда ведь, хочется писать о реальных людях, не только посмотрев с ними какой-то концерт, а хорошо поняв, кто они, что они и почему их вообще видят парой? А в фанфиках запросто можно узнать такие преинтересные детали, как история знакомства или история совместных стримов и выступлений, которые не так-то просто найти на каких-нибудь официальных страничках. А сколько таких случаев, что мы вообще открываем имя нового для нас артиста не через рекомендации или случайно, а благодаря Фикбуку?
К сожалению, столь сильная связь с творчеством фандомных авторов, а не самих артистов, имеет и свою обратную сторону. Мы невольно, едва ли заметно пускаем внутрь своего сознания стереотипы, шаблоны, которые очень прочно там закрепляются, но часто вообще не имеют существенной связи с реальностью. Мы можем перенимать у других авторов образы, видение персонажей и их личные хэдканоны, мы можем копировать даже стиль изложения, то ли пытаясь подстроиться под любимых и/или популярных творцов, чтобы тоже обрести любовь и популярность, то ли попадая в ловушку непроизвольного запоминания.
Не факт, что такое всегда несёт вред: мы ведь учимся, видим какие-то новые и любопытные вещи и запросто можем обогащать ими собственные умения, но здесь важно уметь понять, правда ли нам это нравится и правда ли это объективно качественный приём. Поэтому стоит вдумываться, что и почему мы используем в работах, а ещё читать много-много всего: разных авторов и разные источники, чтобы не стать заложником той ситуации, когда — по незнанию или поддавшись очарованию одноклассницы — списываешь её не очень хорошее домашнее задание и получаешь от преподавателя точно такую же не очень хорошую оценку.
Какими мы видим сформировавшиеся в коллективном сознании образы Саши и Ярика? Сперва следует сказать об объективном, о тех фактах, какие основа всему, как утверждал профессор Абронзиус, или о самых упрямых в мире вещах, как говорил о них Воланд. Если это не AU в хронологическом смысле, то между Александром и Ярославом всегда сохраняется разница в шесть лет; Ярослав чуть пониже и по телосложению более «хрупок» (и к этому вскоре придётся вернуться), а их отношения начались со знакомства на кастинге и зародившейся дружбы. У них соответственно светло-зелёные и голубые глаза, один носит браслеты и кольца, а другой питает слабость к окрашиванию волос, маникюру и имеет на груди татуировку с загадочной А (мы-то знаем, что это значит «Алиса», но Сашино имя ведь тоже на А, к слову…). Вместе с тем Ярослав имеет явные задатки лидера, он собрал вокруг себя и своего имени целую команду, он открыт в общении и никогда не перестаёт творить и гореть своим делом; Александр крайне работоспособен, но спектр его творчества всё же другой, он, несомненно, талантливый актёр, но он достаточно резок в выражениях, если того требует ситуация (что иногда даже спорно), он склонен подшучивать над Ярославом, когда тот (нередко) даёт повод. И прочая, и прочая, и прочая.
Всё это — очень легко проверяемый, если так можно сказать, канон. На самом деле они оба намного сложнее, чем мы можем видеть, и ни один автор не в силах пробраться к ним в душу, но если к ним нельзя приблизиться больше, чем они сами дают понять, то отдалиться, напротив, довольно легко. И здесь речь пойдёт о тех стереотипах, которые сами по себе неоднозначны: они привлекают одну часть читательской аудитории и вызывают резкое отторжение у другой (к другой отнесём и самого Ярослава, вспоминая один его стрим). Автор статьи не хочет, да и не вправе, поощрять или осуждать те или иные модификации прототипов, встречаемые в различных работах, но автор просто перечислит то, что он смог заметить, стараясь обходиться без оценочных суждений.
• Та самая «хрупкость» Ярослава. Что внешне, что внутренне она подчас достигает каких-то огромных размеров. Внешние проявления заключаются в каких-нибудь тонких запястьях, острых ключицах, прозрачной коже и прочих деталях, когда начинает казаться, что Ярик вот-вот разобьётся, что он будто сделанный из стекла. Для сравнения: сколько раз мы встречали где-либо хотя бы немного небритого Ярика? Между тем он бывает таким, и нередко. Да, добавим сюда его склонность заплакать, когда что-то идёт не так или просто — всякий раз — от переизбытка эмоций. Не значит, что слёзы всегда нелогичны, конечно, нет, но чаще человек даст волю эмоциям наедине с собой, а иначе будет хоть как-нибудь их контролировать.
Внутренне Ярик, который не персонаж, а прототип, безусловно, отнюдь не слаб. Он иначе не смог бы достичь всего, чего достиг, и, пожалуй, тут просто достаточно будет сказать, что эмоциональный, порывистый, иногда до странности непредсказуемый герой не без внутреннего стержня и рассудительности будет смотреться намного более многогранно, чем просто потерянный и одинокий. Отсюда берётся и «Яся» — ещё один упрочнившийся фандомный стереотип, который применим только к такому Ярику, которого хочется защитить и укрыть от всего мира.
Ну или к ребёнку, когда к нему обращается взрослый, здесь это будет уместно. Стоит отметить, что в «каноне», то есть в реальности, Ясенькой Ярослава называла только его бабушка, а для фанфиков он сам предлагал такие нестандартные формы своего имени, как Ярос или Ярче.
• Раскладка. И всё же не зря Ярик так просил об обратной! Автор полагает, что их с Сашей разница в возрасте не так уж и велика, чтобы существовал и представлялся лишь один вариант, но вообще на раскладку влияет не это, даже не темперамент и личностные качества, а предпочтения героев в постели, ну или какие-нибудь дополнительные факторы вроде физического или внутреннего состояния героев на момент повествования. Даже если в первый раз, когда Саша с Яриком добираются-таки до рейтинга R или NC, Ярик ведом и неопытен, со временем он вполне может осмелеть и начать постигать что-то новое, так что в вопросе раскладки возможно множество экспериментов, если чуть отойти от «классической» схемы.
Но, конечно же, никакие эксперименты не должны приводить к так называемой «альтернативной анатомии» — или как ещё можно назвать описания физически невыполнимого? Вряд ли возможно дать какой-то универсальный рецепт для прописывания постельных сцен — в общем-то, как и для любых других сцен; важно, чтобы автор в достаточной степени знал и понимал то, о чём хочет сказать, и сохранял баланс между тем, чтобы называть некоторые вещи своими именами (а не порой неудачными замещениями из-за неловкости, внутреннего барьера или ещё по какой-то причине), и тем, чтобы не детализировать описываемый процесс сверх всякой меры.
• Развитие отношений. Здесь просто достаточно, чтобы всё происходило реалистично, — и тогда в это гораздо легче поверишь. Понятно, что чаще всего, начиная работу, мы уже в той или иной мере представляем себе её финал, и мы знаем, что, скажем, Ярик и Саша окажутся вместе и счастливы. Но к хэппи-энду есть множество разных путей, и влюблённость практически с первого взгляда/касания/слова — не то, что так часто встречается в жизни. Ведь нам самим странно довериться почти незнакомцу? На самом деле чаще всего при первой встрече мы и представить себе не можем, кем станет для нас этот человек спустя время.
Конечно, не стоит доходить и до другой крайности и начинать отношения персонажей с практически ненависти, чего-нибудь очевидно нездорового — если финал всё равно должен быть безупречно счастливым. Подобные вещи непросто преодолеть, от них непросто избавиться, и чаще всего таким образом начавшиеся отношения в реальности не приведут ни к чему хорошему. Если финал и планируется нехорошим или хотя бы открытым, то всё может получиться более-менее достоверным.
И ещё немного в той или иной степени традиционных для фандома вещей:
• Игра с именами. Такая особенность, как правило, характерна для тех AU, где герои вообще никак не связаны с актёрством или даже современностью. Конечно, во всём нужно знать меру и проверять, подходит ли данная форма имени для описываемой исторической эпохи или страны; в случае, если вполне может подойти, это выделит работу среди других, но, с другой стороны, не станет хуже, если оставить имена главных героев такими, какие они есть. Однако если говорить о такой вселенной, для которой настоящие имена прототипов были бы чужды, тогда адаптация имён персонажей к описываемой реальности уже желательна.
• Собственно, AU. Чего только здесь не встречается: ретеллинги, другое время, другие миры, в том числе магические или с существованием в них мистики и вымышленных существ. Иногда очень хочется перенести персонажей в придуманные или позаимствованные откуда-нибудь обстоятельства, чтобы посмотреть на развитие их характеров и романтической линии сквозь призму другой вселенной. Однако в таком случае все приведённые выше черты прототипов вроде Сашиной работоспособности или несомненной любви Ярика к своему делу и творчеству, скорее всего, размываются или стираются вовсе. Будет лучше, если сохранятся по меньшей мере какие-нибудь детали, отсылки к реальности в том или ином виде, чтобы связь с каноном просматривалась, а не истончалась до жанра «ориджинал», более подходящего такой работе. Когда речь идёт о ретеллинге, то есть когда нужно «втиснуть» Ярика или Сашу в рамки какого-то другого персонажа, тем более важно сохранить в этих образах именно их особенности.
• Второстепенные герои. Когда работа довольно объёмна, они на самом деле нужны, и, конечно, всякому читателю будет интереснее и проще, если это окажутся уже знакомые ему лица. Чаще других таковыми выступают оставшиеся участники «пентапятёрки»: Кирилл, Вера и Лена, а если разработанному автором миру нужен злодей, то эту роль на себя нередко берёт Иван (что совершенно неудивительно благодаря его ролям; автор статьи вот так с ходу не может припомнить других прототипов для строго отрицательных персонажей, что, конечно, не исключает того, что и они где-то есть). Часто всех трёх, упомянутых выше, объединяют в одну любовную линию; в любом случае важно продумать мотивы, характер, развитие (если таковое имеет место) для каждого героя и, как и в случае с главными, постараться в чём-то сохранить их связь с прототипами.
Но RPF не ограничивается только самим RPF, как странно бы это ни звучало. И вопросом, также требующим рассмотрения, является тот, когда, условно говоря, какой-нибудь персонаж Ярика находит какого-нибудь персонажа Саши и вступает с ним в романтические отношения по примеру самих Саши с Яриком. Иногда это совершенно логично, как в случае с Лайтом и Эл из «Тетради Смерти» (пэйринг которых возник и обрёл популярность куда раньше, чем Александр и Ярослав впервые примерили эти роли) или как в случае с Иисусом и Иудой из рок-оперы «Иисус Христос — Суперзвезда». Пэйринг Мисы и Рэм, к слову, тоже логичен и популярен, проистекает он из того факта, кто в русскоязычной версии мюзикла их играет, или нет.
Но бывает так, что почему-то Альбер, позабыв о своих отношениях с Валентиной де Вильфор, внезапно оказывается очарован Бенедетто, человеком сомнительной, мягко сказать, репутации; бывает, что капитан Грей, позабыв об Ассоль, вдруг зовёт с собой на корабль Меннерса-младшего (который, к слову сказать, тоже совершенно забывает бедную Ассоль). Может быть, впереди нас ждёт даже встреча Раскольниковых из каких-нибудь параллельных вселенных, кто знает? А ещё пэйринг Фредди и… и просто Ярика, и, хотя этот Ярик не шахматы и не Флоренс, Фредди всё равно его любит.
Несомненно, всё это любопытно уже само по себе, как феномен. Нельзя сказать, что подобные линии неканоничны (хотя бы потому что на самом деле неканонично всё, что не является непосредственно каноном), но в таких случаях определённо требуется больше усилий, если автор имеет цель одновременно сохранить заданные характеры и дать происходящему объяснение. В отличие от непосредственно RPF, здесь возможен ООС как таковой, потому что первоначальный характер персонажа, а не актёра, прекрасно нам известен, поэтому лучше проставить его в метках в том случае, если есть подозрения, что он присутствует.
ООС — ничуть не показатель некачественной работы, но по своему опыту как читателя автор статьи может сказать, что в большинстве случаев персонаж воспринимается тем интереснее, чем меньше имеет отклонений от своего каноничного вида. Однако гораздо больше, нежели ООС или любое другое предупреждение, работу могут испортить очевидные логические провалы: например, если Лайт отказывается от своей миссии и тетради смерти не вследствие долгих, мучительных душевных терзаний, раздумий, не будучи загнанным в угол, а просто в один миг и не сомневаясь — тогда ООС достигает такой степени, что ради ничем не обоснованного желания автора персонаж просто перестаёт быть самим собой. Или если каким-либо образом человек с глазами бога смерти видит срок жизни того, кто на данный момент Кира, чего согласно правилам данного мира никак не может случиться.
Дальше речь пойдёт о ряде вещей, не имеющих прямой связи с кем- или чем-либо из РМТ, а скорее касающихся навыка писательства в целом.
• Критика и общение с читателями. Без сомнения, каждый хотел бы получать развёрнутые положительные отзывы; на такие и отвечать очень приятно, они придают уверенности в себе и сил для дальнейшего творчества. Без сомнения, конструктивная критика гораздо важнее для развития (а совершенство недостижимо, как мы помним), но может плохо сказаться на вдохновении и самооценке. Потому стоит проставить своё отношение к критике, предупреждая, готов ли ты к ней или, возможно, её не выносишь.
Подсказка: но ничто гарантированно не защитит от тех, кто проигнорирует предупреждение или разнесёт всё в пух и прах неконструктивно — основываясь не на фактах и конкретных ошибках, а лишь на том, что не соответствует его личным предпочтениям. И в таком случае можно постараться проявить себя как человека, способного свести назревающий конфликт на нет и, может быть, даже завязать с этим читателем вполне безобидную дискуссию.
Если всё дело лишь в том, что ваши видения персонажей или деталей сюжета разнятся, тогда стоит так и ответить. В том случае, если замечания всё же имеют смысл, стоит признать это, стоит исправить их, если они не слишком глобальны и не касаются того, что исправишь, лишь переписав фанфик целиком. Вот ещё совет: не отключать публичную бету, потому что никто не может быть застрахован от невнимательности или потери концентрации, даже идеально грамотный человек, вычитывающий текст перед публикацией неоднократно. В любом случае из всякой критики может быть извлечена хоть малейшая польза, автор статьи в этом убеждён, так что, если она всё-таки задевает, не худшим решением будет вообще оставить её без ответа, а отреагировать позже, вдумчиво, с холодной головой. Показать, что ты превосходишь критикующего в том или ином вопросе, гораздо эффективнее в аргументированной дискуссии с помощью логики, нежели просто послав его лесом и нагрубив. Последнее лишь оттолкнёт от тебя некоторую часть твоей аудитории.
А на положительные отзывы уж тем более всегда стоит отвечать, не оставляя искренние порывы читателей проигнорированными. Даже если кажется, что на это не хватает времени, — его ведь хватает на собственно тексты, так что здесь скорее вопрос приоритетов и выбора.
• Стиль повествования, грамотность, оформление. Лучше всего, когда стиль уникален, когда твоего собственного в нём больше, чем чьего-либо ещё. Лучше всего, когда работа вычитана и в ней не случается ни очевидных ошибок, ни упомянутых выше логически невозможных вещей. Лучше всего, когда глаз читателя не цепляется ни за дефисы вместо тире (что легко исправляется форматированием), ни за Е вместо Ё (за игнорируемую букву Ё правда обидно, а слово «передохнет» в таком случае резко обретает двусмысленность), ни за некорректные формы слов. Правило и совет автора статьи: если ты сомневаешься в слове (или если в нём сомневается, заходясь красной волной, твой редактор), всегда проверь его в сети на написание и значение. Если ты в принципе не уверен в себе, тогда не помешает найти постоянную бету.
Ещё есть вопрос времени: настоящего или прошедшего. По личному мнению автора, последнее чаще воспринимается более естественно, и его легче читать; если работа сконцентрирована не на детальном описании конкретного момента, а описывает последовательность событий и вообще длинная, тогда точно стоит остановить выбор на прошедшем. И, разумеется, времена не должны бессистемно скакать — никак, нигде, даже если речь о разных главах.
Язык также должен восприниматься естественно от порядка слов до используемой лексики. Вот из более ранних работ самого автора (в соавторстве, но конкретно вот это — его фраза): «Грушеньке сон этот снится всё время ещё до его ареста, до их минутного — вечного — счастья вдвоём; она в этой гибели бессмысленной спасение и свет находит, осознавая наконец яснее всего, кому её сердце принадлежит». Понятно, что не в пример гармоничнее был бы вариант: «Этот сон снится Грушеньке всё время ещё до его ареста, до их минутного — вечного — счастья вдвоём; она находит в этой бессмысленной гибели спасение и свет, наконец яснее всего осознавая, кому принадлежит её сердце». Сейчас автор полагает, что в первом случае недостаток его собственного текста очевиден.
А что касается лексики — она своя у каждого отдельно взятого человека, и даже в работе, написанной в едином стиле, можно придать каждому из главных героев какие-нибудь личные особенности речи, продумать манеру общения или и вовсе списать её с прототипов, и тогда герои и сами станут немного более «живыми», чем прежде. В целом лексике пойдёт на пользу, если она будет приятной глазу, не слишком — неоправданно — возвышенной, пресыщенной канцеляритами, нецензурными оборотами или ещё чем-либо подобным.
Бывает, что хочется выделить тот или иной фрагмент фразы, сделать на нём особый акцент — только в письменной речи нельзя передать интонаций. Тогда в ход идут очень различные методы: можно написать слово т а к, и _так_, и даже _т а к_, и ещё \так\ или /так/, ТАК, *так*, т-а-к, ну, в общем, фантазия может быть почти безгранична. Сам автор статьи в одно время вылавливал и устранял у себя преимущественно первый вариант, почему-то однажды заменивший в работах привычный прежде курсив. Как итог: вот так, вот так, даже вот так на глаз воспринимается гораздо лучше, потому что в о т т а к к а к с е й ч а с — нечитаемо в случае больше чем одного слова.
Как правило, для смысловых акцентов в текстах используется курсив; ещё курсив может обозначать иностранную речь, мысли, воспоминания, одним словом, что-то, что чем-нибудь отличается от остального; ВОТ ТАК Саша может наорать (в буквальном смысле) на Ярика, когда тот слишком уж провинится, однако если он станет КРИЧАТЬ ЧЕРЕЗ РАЗ, тогда читатель сочтёт его Александром Рагулиным или кем-то психически нездоровым.
Вот так может иметь место, допустим, для черновиков письменных посланий; так выделяется что-то существенно значимое, однако скорее заглавия, а не сам текст. Вот та-а-ак можно что-нибудь протянуть. Для обычных акцентов желательно пользоваться не подручными, а предлагаемыми редактором средствами выделения, чтобы работа читалась — по меньшей мере выглядела — как профессионально оформленный текст.
Совсем уже мелочи вроде различия двух многоточий (..., …) и двух видов кавычек ("один", «другой») просто сделают текст на один процент приятнее, если будет использован второй вариант.
• Ещё немного о всяком.
Как правило, заголовки не оканчиваются точками. И заголовки глав — тоже. Да, главы, будь они способными изъявлять волю, хотели бы иметь заголовки, как люди хотят иметь имена, да и читателю так явно проще сориентироваться в работе. Как человек, всегда называющий свои главы, автор статьи нередко думал над этим довольно долго, если только название не рождалось ещё прежде самой главы, однако всё-таки эта процедура имеет означенный выше смысл, а ещё заголовки возможно придумать достаточно оригинальными.
Как правило, в описании работы или примечаниях к нему не указывают, что автор знает, что это не очень хороший текст, или что автор не знает, что вообще из этого текста выйдет, потому как вот так явно выраженная неуверенность в самом себе вряд ли говорит об авторе в положительном ключе. Раз он сам в себя не верит, то, значит, в работе действительно найдутся какие-то сомнительные вещи.
Как правило, если метки о чём-то значительном (AU, OOC и особенно смерть персонажа) не проставляются во имя интриги, рано или поздно читатели начнут обходить такого автора стороной. Сам автор статьи не считает обязательным указывать, какой из финалов (счастливый, несчастливый или открытый) ожидает читателей, но вот о смерти основного или второстепенного персонажа, о каких-нибудь специфических отношениях, вообще о чём-либо, что может повергнуть читателя в шок, стоит предупреждать.
Как правило, в текстах работ имена числительные прописываются буквами, если только речь не о графе фон Кролоке, вспоминающем, как дочка католического пастора, увы, не ведала опасности в 1730 году. Ещё, как правило, если речь вдруг обрывается, то она обрывается вот таким обр… в общем, вот таким образом, а не так- (автор статьи встречал такой односторонний дефис во многих текстах, но всё ещё этого не понимает, для него оно всё ещё «некрасивое»).
Ну и, как правило, тексты, в которых разные абзацы отделяются друг от друга пустыми строками, в целом читаются легче, чем тексты, где это разбиение отсутствует (у автора статьи есть пара текстов, где эта рекомендация не выполняется, но автор статьи полагает, что именно там это оправдано).
• Вложенный смысл и желаемая цель. Если с самого начала сформулировать для себя, для чего пишется данный текст и какую мысль он несёт в себе (если несёт), будет проще во многих вещах: от ответов на критику до выбора тех или иных средств, приёмов и прочего. Может, он пишется для самого автора, желающего просто закрыть гештальт путём воплощения той или иной идеи, и тогда совершенно неважно, какой фидбэк он получит? А может, он призван прибавить тебе популярности — и тогда хорошо бы проанализировать предпочтения основной массы читателей и создать что-то похожее. Может быть, текст вообще лишён высоких смыслов и не нужно пытаться их в него вложить (в том числе и читателям), а может быть, ты хочешь наполнить его символами, дать понять что-нибудь иносказательно.
Если работа большая, хотя бы больше двадцати страниц, не лишним будет завести для неё черновик и схематично прописать сюжет, смыслы, события, символы, образы, хронологию, что угодно (на собственном опыте автор может сказать, что так проще, да и едва ли возможно удержать все идеи в голове и ни одной не забыть). Иногда интересно сравнить первоначальный план с тем, во что всё вылилось в конечном счёте.
В заключение автор, пожалуй, отметит, что вряд ли сам везде следует каждой рекомендации, приведённой здесь, но в целом считает «Сборник» довольно полезным, пускай какие-то изложенные в нём вещи могут показаться совсем очевидными. Завоевать сердце читателя не удастся, если не вкладываешь в работу частичку себя и своих сил, но, если ты этому следуешь, можно попробовать завоевать его ещё сильнее.
Ведь совершенство действительно недостижимо.
Что еще можно почитать


Пока нет отзывов.